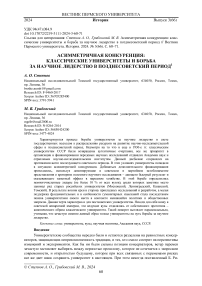Асимметричная конкуренция: классические университеты и борьба за научное лидерство в позднесоветский период
Автор: Степнов А.О., Грибовский М.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Позднесоветские университеты как исследовательские институции
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Характеризуется процесс борьбы университетов за научное лидерство в свете государственных подходов к распределению ресурсов на развитие научно-исследовательской сферы в позднесоветский период. Несмотря на то что в еще в 1930-е гг. классическим университетам СССР были возвращены аутентичные очертания, все же приоритет в организации и финансировании передовых научных исследований отдавался Академии наук и отраслевым научно-исследовательским институтам. Данный дисбаланс сохранялся на протяжении всего последующего советского периода. В этих условиях университеты попадали в ситуацию асимметричной конкуренции. Добиваться дополнительного финансирования приходилось, используя доминирующие в советском и партийном истеблишменте представления о критериях полезного научного исследования - дающего быстрый результат и оказывающего заметный эффект в народном хозяйстве. В этой борьбе определились немногочисленные лидеры (не более 10 % от всех вузов), среди которых заметное место занимал ряд старых российских университетов (Московский, Ленинградский, Казанский, Томский). В результате возник крен в сторону прикладных исследований и разработок, а малая поддержка фундаментальных и в особенности гуманитарных изысканий стала последствием поиска университетами своего места в контексте менявшейся политики и общественных запросов. Данная черта характерна и для постсоветских университетов. Находя для себя нишу в советской аппаратной империи, эти ведущие вузы отдалялись от собственного прототипа - канонического образа классического университета. Такой поворот выглядит парадоксальным, учитывая, что зачастую именно данный образ толкал университеты на путь борьбы за научное лидерство.
Университеты, вузы, научная политика, академия наук, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147246553
IDR: 147246553 | УДК: 94(47).084.9 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-60-71
Текст научной статьи Асимметричная конкуренция: классические университеты и борьба за научное лидерство в позднесоветский период
Университетские сообщества нередко были и остаются разделены на ревностных консерваторов, защищающих неприкосновенность традиции, и тех, кто смело смотрит на перспективы изменений и экспериментов. Как бы ни были сильны позиции консерваторов, ветер перемен зачастую заставляет выбирать между верностью прошлому, которое не сочетается с запросами современности, и открытостью будущему, которое при всех связанных с переменами рисках все же дает шанс сохранить университет в настоящем. При этом некогда поставленный Б. Ри-
дингсом вопрос о том, где находится граница реформирования университета, после которой само понятие «университет» перестает существовать, остается актуальным [ Readings , 1996].
Университеты в России, с одной стороны, всегда воспринимались как инструмент возвеличивания государства, а с другой – нередко угрожали его стабильности. Отсюда проистекает характерная как для имперского, так и для советского периода переменчивость университетской политики. В условиях отсутствия развитых социальных институтов и общественных сил, которые могли составить конкуренцию государству в поддержке университетов, последние вынуждены были искать гарантии своего существования в юридической регламентации отношений с государством. Как отмечал С. Кассоу, в дореволюционный период «доверие было заменено уставом» [ Kassow , 1994, p. 254].
В советское время поиски альтернативы доверию оказались еще более проблематичными, а за трудным путем к автономии имперского периода последовали непростые отношения с большевиками. Российские университеты как будто были обречены оставаться пленниками политического режима. В то же время эта ситуация вынуждала университетские сообщества гибко адаптироваться к менявшимся условиям.
Советское время привнесло кардинальные изменения в организацию науки – интегральной части университетской системы. Новая политика сместила центр тяжести научного развития на отраслевые, академические, а отчасти и университетские научно-исследовательские институты (НИИ). В историографии этот сдвиг оценивается по-разному. В советское время он характеризовался как естественный этап эволюции научной политики, предпосылки к которому сложились еще в предреволюционное время [ Лахтин , 1990, с. 6–9]. Л. Грэхэм, однако, обращает внимание на политические факторы изоляции науки от университетов в советское время [ Graham , 1975]. Власть, нацеленная на коренную перестройку высшей школы в рамках политики т.н. «пролетаризации», стремилась оградить студенчество от «буржуазной» профессуры и вместе с тем была заинтересована в научном потенциале последних. Университеты остались в тени влиятельных ведомств и Академии наук (АН), статус которой в позднесталинский период возрос до невиданных ранее высот. Получив колоссальные материальные возможности, ученые создавали в своих институтах целые исследовательские империи. В то же время в 1920-е гг. университетам были нанесены болезненные удары, хотя после 1930 г., который принято называть «годом Великого перелома» в жизни советской высшей школы, отчасти и были восстановлены элементы старой университетской системы [ David-Fox , 2000, p. 83]. Отдельным периодом в истории советских университетов является сталинская эпоха (1930-е – начало 1950-х гг.).
В отличие от 1920-х гг., тогда стал утверждаться подход на расширение места науки в вузе, опиравшийся на идею о том, что там сконцентрированы многочисленные кадры аспирантов, кандидатов и докторов наук, которые слабо задействованы в научной жизни страны, что нецелесообразно с точки зрения интересов развития народного хозяйства. Известная реставрация облика классических университетов в это время происходила на фоне в общем нехарактерной для отечественных реалий высокой академической мобильности, повышения социального статуса, авторитета и материально-бытового уровня вузовских преподавателей. Названная академическая мобильность была зачастую не добровольным, а принудительным перемещением ученых в региональные вузы как результат распределения и политической ссылки (порой фактически, а не юридически воспринимавшейся в качестве таковой), а в годы Великой Отечественной войны – эвакуации в восточные районы СССР. Несмотря на реэвакуацию, а затем и политическую реабилитацию хрущевской эпохи, многие из таких ученых предпочитали оставаться в периферийных университетах, где ими нередко создавались научные школы, усилившие конкурентоспособность таких вузов в позднесоветскую эпоху.
Все же тезис о том, что наука в советское время ушла из университетов, в историографии остается доминирующим. Этим тезисом описывается глубокий разрыв в отечественной университетской истории. Вместе с тем уже в постсоветской России университеты, формируя свою идентичность и разрабатывая стратегии развития, опираются на представления о непрерывном прошлом, в котором имперский и советский компоненты тесно и органично переплетены, что порой вызывает иронию среди исследователей [ Дмитриев , 2013].
В статье предпринимается попытка охарактеризовать динамику развития позднесоветских университетов в контексте их асимметричной конкуренции с Академией наук и отраслевыми НИИ в борьбе за научное лидерство и понять, удалось ли при этом сохранить структуру и ландшафт классического университета.
Рассуждая о классическом университете, мы основываемся прежде всего на представлениях о них современников исследуемой эпохи и на общепринятых в историографии характеристиках – как вузов, опирающихся на традиции гумбольдтовской модели: жесткий отбор студентов; широкие программы обучения и приоритет подготовки не только и не столько специалиста, сколько гражданина, культурной, всесторонне развитой личности; как привило, четырехфакультетная структура, охватывавшая все отрасли научного знания; особый статус фундаментальной науки в целом и социально-гуманитарного знания в частности; во многом антиутилитарный характер научных устремлений. Модель с такими характеристиками заимствовалась Российской империей из опыта прусских университетов в первой трети XIX в., в период формирования отечественной университетской системы. При всех изменениях базовый каркас этой модели сохранялся в российских университетах вплоть до 1917 г., ее элементы прослеживаются и в более поздние периоды. В советскую эпоху на фоне создания широкой сети узкоспециализированных вузов (политехнических, медицинских, педагогических и т.д.) эта модель, корнями уходившая в дореволюционную эпоху, выглядела особо контрастной.
Сказанным обусловлен выбор материалов исследования, которое сфокусировано как на столичных, так и на региональных старых (Московский, Ленинградский, Саратовский, Томский и т.д.) и молодых, образованных уже в советское время (Воронежский, Горьковский, Новосибирский и т.д.) университетах. Апеллируют авторы и к вузовской системе в целом для того, чтобы определить особое место в ней классических университетов позднесоветского периода (конец 1950-х – 1991 г.). Известные хронологические отступления (в два качественно обособленных советских периода – 1920–30-е гг., 1930-е – начало 1950-х гг., а также отчасти и в дореволюционный период) объясняются необходимостью проследить динамику развития университетов на разных этапах.
Университеты, отраслевые и академические НИИ: природа асимметричной конкуренции
В советское время собственными научно-исследовательскими институтами обзавелись как старые, созданные еще в дореволюционной России, так и молодые университеты, история которых пришлась в основном уже только на советское время. В целом по СССР лишь малая часть НИИ организовывалась при университетах. Создаваемые в бесчисленном количестве (к 1927 г. в СССР было 2454 научных учреждения), эти институты стали новацией советской эпохи, хотя опыт отделения науки от образования ранее уже был апробирован в европейских странах. Предреволюционная университетская профессура с восхищением отзывалась об Обществе кайзера Вильгельма, видя в нем прообраз для развития науки будущего в России [ Kojevnikov , 2008, p. 120]. Хотя в то время отечественная высшая школа уже приближалась к созданию в составе вузов специализированных исследовательских институтов, многие проекты тогда так и остались на бумаге. В дальнейшем именно поддержка большевиков сыграла ключевую роль в этой модернизации, реализованной, правда, прежде всего на «территории» Академии наук, превращенной в масштабную индустрию производства знаний. Это укрепило альянс науки и власти в раннесоветский период [ Колчинский , 2003, с. 478–479].
Вузы воспринимали академические, отраслевые и университетские НИИ как базу для подготовки студентов и проведения исследований собственными преподавателями. Университетские ученые поддерживали деловые связи с институтами, и часто казалось, что эти отношения являются партнерскими. Для вузовской науки важным показателем было включение исследовательских работ в координационные планы АН СССР. Университеты и Академия наук создавали совместные лаборатории, секторы, временные коллективы. В 1974 г. АН СССР в связи со своим 250-летним юбилеем получила от высших учебных заведений страны многочислен- ные поздравительные телеграммы, письма и адреса. Союз академической и университетской науки выглядел фактором, укреплявшим величие Советского Союза.
Но была и другая сторона этих отношений. Хронический дефицит финансирования университетской науки, наблюдавшийся еще с 1920-х гг., стал характерной особенностью всего советского периода. Университеты постоянно обращались в союзный центр с просьбами об увеличении ассигнований на развитие материально-технической базы: постройку новых зданий, открытие лабораторий и закупку оборудования. В 1950-е гг. руководство Ужгородского университета сетовало на то, что, несмотря на многолетние свои просьбы об увеличении ассигнований на учебное и хозяйственное оборудования, из года в год они только сокращались (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 434. Л. 49). Историко-филологический и географический факультеты, а также ряд общеуниверситетских кафедр Воронежского университета в то время организовывали занятия в студенческих общежитиях: учебные площади вуза были в 7–9 раз меньше установленных норм (Там же. Л. 146). Карело-Финский (с 1956 г. – Петрозаводский) университет вынужден был сокращать прием студентов из-за того, что для тех попросту негде было проводить занятия (Там же. Л. 160). Уральский университет размещался в трех школьных зданиях, мало пригодных для учебных и научных целей (Там же. Л. 179). Специальный факультет Днепропетровского университета испытывал недостаток в учебных помещениях, несмотря на то что готовил стратегически важных специалистов по ракетной технике. Занятия даже приходилось организовывать в вечернюю смену в одной их средних школ Днепропетровска (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 533. Л. 163). В 1986 г. профессор Томского государственного университета (ТГУ) Н. С. Голосов остроумно замечал, что возглавляемая им кафедра экспериментальной физики, на которой фонд оборудования не обновлялся с 1960–70-х гг., «скоро превратится в музей» (ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 6905. Л. 70 об.).
Столичные университеты тоже не всегда были удовлетворены своим положением. В 1960-е гг. Ленинградский государственный университет (ЛГУ) располагал 84 зданиями, разбросанными по всему городу и в большинстве своем не приспособленными к научно-учебным потребностям. Эти здания, построенные преимущественно в XVIII–XIX вв., пребывали зачастую в ветхом состоянии и мало подходили для организации работы современного научного центра. В 1964 г. в адресованном Н. С. Хрущеву коллективном письме руководством ЛГУ отмечалось: «Государство тратит большие деньги на капитальный ремонт бывших дворцов. Только за последние 3 года было израсходовано около 3 млн рублей. Однако резиденции царских вельмож по-прежнему мало отвечают потребностям непрерывно растущего университета, и ему приходится приспосабливать под лаборатории и учебные аудитории подвальные помещения и квартиры сотрудников» (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 109. Л. 6–7).
Даже Московский университет, при всей своей привилегированности, не всегда получал должного отклика со стороны высших партийных и государственных кругов. В начале 1950-х гг. ректор МГУ И. Г. Петровский просил сохранить за вузом 3 тыс. м2 жилых площадей после переезда в здание на Ленинских горах. Секретариат ЦК КПСС в 1953 г. отказал в этой просьбе: «В Московском государственном университете в текущем году уже принято в эксплуатацию 64 тыс. кв. м жилой площади. Кроме того, Моссовет строит для нужд Московского университета жилой дом площадью 26 тыс. кв. м. Такого количества жилья в Москве за последние годы не получала ни одна организация…» (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 434. Л. 62).
Университеты, особенно региональные, принимавшие в число своих студентов массу приезжих, не всегда могли обеспечить их местами в общежитиях. Происходило это в том числе и потому, что эти места порой занимали сами преподаватели. Так, в 1965 г. из одного из старейших российских университетов в Саратове сообщалось в Москву, что большое количество иногородних студентов не обеспечено жильем, потому что значительное число преподавателей сами проживали в общежитиях, причем большинство из них ютились там «много лет» (ГАРФ. Ф. А-605. Оп. 1. Д. 2593. Л. 257).
Необеспеченность жильем заставляла многих талантливых ученых покидать провинциальные вузы. Способствовали этому и другие факторы. После того как в 1958 г. была отменена 30%-я надбавка к заработной плате для жителей Крайнего Севера, доходы преподавателей
Якутского университета приблизительно сравнялись с их коллегами из центральных вузов. Это вызвало отток кадров. В 1960 г. из 390 штатных единиц профессорско-преподавательского состава в университете была укомплектована только 141. По сообщению первого секретаря Якутского обкома КПСС С. З. Борисова, после отмены надбавки «оклады преподавателей университета оказались в 1,5–2 раза ниже, чем у работников той же квалификации, занятых в научных и хозяйственных организациях республики» (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 77. Л. 38). Говоря о научных организациях, Борисов имел в виду прежде всего организованный в 1949 г. Якутский филиал АН СССР (с 1957 г. – в составе Сибирского отделения (СО) АН СССР).
Несмотря на то, что в позднесоветский период сеть университетов увеличивалась так же интенсивно, как и сеть АН СССР и отраслевых НИИ, в тот период возник заметный дисбаланс в распределении кадров и материальной базе. Так, если в 1940 г. общая численность научных работников из научных учреждений составляла 26,4 тыс. человек, а из вузов – 61,4 тыс., то к 1955 г. эти показатели соответственно составляли 96,5 тыс. и 119,1 тыс. человек, а в 1960 г. – 200,1 тыс. и 146,9 тыс. человек (Народное хозяйство СССР в 1960 г., 1961, с. 782). В середине 1970-х гг. только треть всех советских научных и научно-педагогических работников работали в вузах, при этом не все из них вели научную работу [Наука большой страны…, 2023, с. 48]. Показательны цифры, характеризующие материальную базу вузов и научных организаций Академии наук на излете советской эпохи. Так, по состоянию на 1989 г. вузы располагали 1456 зданиями научных организаций, а в системе Академии наук зданий было 3919 (Наука СССР в цифрах, 1991, с. 41). По такому показателю, как стоимость имевшихся дорогостоящих (свыше 30 000 руб.) машин и оборудования, вузы к концу советской эпохи занимали нишу в 11,1 %, на долю АН СССР приходилось свыше 20 %, а больше всего дорогостоящего оборудования – свыше 68 % – было в отраслевом секторе науки (Там же, с. 40). Наконец, в структуре расходов на НИР по секторам наук в 1990 г. на вузовский сектор приходилось только 6,8 % (Там же, с. 26).
Безусловно, многие советские университеты тесно сотрудничали с АН СССР, немало преподавателей трудились в академических (а также отраслевых и университетских) НИИ по совместительству. Ученые из Томского университета, к примеру, стояли у истоков Томского научного центра Сибирского отделения АН СССР, не порывая при этом связей с вузом. В 1960–1970-е гг. выстраивались такие формы сотрудничества вузов и академических институтов, как совместные научные исследования по хоздоговорам и договорам о творческом содружестве с предприятиями, совместное использование материально-технической базы, например, через межведомственные (АН СССР и Минвуз СССР) вычислительные центры, создание базовых кафедр. Но на протяжении всего советского периода Академия в этом сотрудничестве занимала доминирующую позицию, определяя приоритетные направления научных исследований и технологических разработок, притягивая перспективные кадры на основное место работы, обеспечивая для сотрудников своих НИИ солидную материально-техническую и финансовую базу для реализации самых амбициозных проектов.
Правило и исключение: новосибирский научно-образовательный комплекс
В историографии подчеркивается исключительный случай взаимодополняющего союза университета и Академии наук в СССР – центр науки и высшего образования в новосибирском Академгородке. Новосибирский государственный университет (НГУ), основанный в 1959 г., рассматривался его создателями как органичная часть СО АН СССР [ Josephson , 1997, p. 29–30; Аблажей , Водичев , Красильников , 2021, с. 117–119]. И хотя создавался этот университет с опорой на опыт Московского физико-технического института (МФТИ), современники нередко характеризовали его как «высшее учебное заведение нового типа, производящее подготовку научных кадров с помощью научных сил институтов Сибирского отделения Академии наук СССР и на базе их оборудования» (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 77. Л. 57).
МФТИ был образован на базе физико-технического факультета МГУ, созданного по инициативе тех физиков, которые в силу обстоятельств оказались изолированы от физического факультета старейшего университета страны. На физтехе МГУ преподавали П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, С. А. Христианович, а в дальнейшем именно МФТИ вдохновил на создание ново- сибирского Академгородка, где раздиравшие Академию и университеты противоречия, кажется, уступили место гармоничным отношениям.
Первый ректор НГУ, академик И. Н. Векуа признавался, что его вуз не располагал «ни собственными кадрами профессоров и преподавателей, ни собственной лабораторной базой» (Там же. Л. 75). Среди первых преподавателей НГУ были ведущие ученые СО АН СССР: академики М. А. Лаврентьев, П. Я. Кочина, А. И. Мальцев, Ю. Н. Работнов, В. С. Соболев, А. А. Трофимук и др.
Новосибирский Академгородок стал эталонной советской моделью научнообразовательного комплекса, где, несмотря на доминирование Академии, университет получал уникальные возможности: привлекать академиков к преподаванию, использовать мощную научно-исследовательскую инфраструктуру, участвовать в приоритетных научных проектах [ Аблажей , Водичев , Красильников , 2021, с. 130]. Не имея глубоких корней в истории, НГУ заслужил отсылавшую к петровской эпохе славу неформального «академического университета». Тот подкрепленный историческим нарративом образ, который вдохновлял старейшие университеты и был скорее идеалом, контрастно оттеняющим действительность позднего СССР, оказался реализован на опыте этого молодого университета – детища позднесоветской эпохи. Недаром новосибирский Академгородок 1950–60-х гг. сравнивали с утопией, в которую стремились попасть идеалистически настроенные молодые ученые со всего Советского Союза.
Университетские НИИ и конфликт интересов
Усложняет картину противоречивый статус университетских НИИ. Фактически их положение нередко было автономным. Находясь в одном пространстве с университетами, эти институты не всегда разделяли судьбу этих университетов, пользуясь щедрым финансированием государства. Функционировавший при ТГУ Сибирский физико-технический институт (СФТИ) стал таковым. За фасадом партнерских отношений с университетом и здесь скрывалась напряженность.
В 1980-е гг. коллектив физического факультета Томского университета ощущал собственное ущербное положение, не в силах самостоятельно определять направления научных исследований и обеспечивать их финансирование и материальную базу для реализации. Университетские физики Томска следовали в фарватерах научного планирования СФТИ и зачастую вынуждены были подчиняться воле его руководства даже в кадровом вопросе.
В 1983 г. Ученому совету физфака ТГУ не удалось избрать доктора физикоматематических наук Д. М. Гитмана на должность заведующего кафедрой теоретической физики. Для того, чтобы заблокировать данное решение, достаточно оказалось слова влиятельного директора СФТИ М. А. Кривова (ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 2612. Л. 84). Как отмечал Н. С. Голосов, который в 1983 г. был деканом физического факультета ТГУ, этот институт, в котором университет изначально видел базу для научных исследований, в итоге превратил университет в собственную базу (Там же. Л. 84).
Не по плану: университеты в советской научной политике
Доминирующим элементом советской научной политики была централизация. Как современники, так и сторонние наблюдатели и исследователи отмечали, что эта научная система обладала достаточным потенциалом, чтобы реализовывать масштабные проекты, связанные в первую очередь с военно-промышленным комплексом, освоением космоса, использованием атомной энергии [ Graham , 1993, p. 180; Водичев , 2014, с. 50] ( Гвишиани , 2007, с. 321). Но то, что было силой этой системы, в то же время было ее ахиллесовой пятой. Отсутствие должной гибкости и определенная мегаломания создавали дисбаланс в военной и гражданской сферах. Страна, первая покорившая космос, не могла удовлетворить своих граждан современной технологической продукцией, а в отдельные периоды, особенно на излете советской эпохи, и даже товарами первой необходимости.
Роковую роль сыграло характерное для всех тоталитарных государств стремление к всеобъемлющему контролю и делегированию полномочий органам и сообществам (Государственный плановый комитет (Госплан) и Государственный комитет при Совете министров СССР по науке и технике (ГКНТ), отдельные министерства), которые даже при блистательном с интел- лектуальной точки зрения кадровом составе были не в состоянии учесть все изменчивые факторы развития динамичной и масштабной системы – науки гигантской сверхдержавы. То, что было пороком командно-административной системы экономики в целом, бросало тень и на научную политику.
Еще после реабилитации 1930-х гг. университеты были возведены на вершину пирамиды советского высшего образования. Отказ от отбора студентов по социальному критерию, усиление теоретической составляющей образовательного процесса символизировали ренессанс классического университетского образования. Сталин, при участии которого осуществлялся этот поворот, выступал против увеличения числа университетов, настаивая на развитии уже существующих как центров фундаментальной науки и всестороннего образования (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 66. Л. 28). Неслучайно у молодежи 1950–1960-х гг. величественные университеты – оплоты элитарности ‒ ассоциировались уже не с царским режимом, а со сталинским временем.
Но университетские ученые были более осведомлены в этом вопросе и потому трезво смотрели на ситуацию. Организация учебного процесса в русле новейших тенденций развития науки, темпы которого в XX в. были стремительны, требовала капитальных вложений в фундаментальную университетскую науку. Между тем приоритет научной политики, актуальный на протяжении всего советского периода, отдавался тем исследованиям, которые обещали принести скорые плоды. В организации таких исследований академические и отраслевые НИИ имели преимущество перед университетами. Университеты, на которые была возложена почетная миссия подготовки специалистов с фундаментальными знаниями, оказались в ловушке эклектичного и зачастую противоречивого подхода властей к научно-образовательной политике.
Весьма ограничены были инструменты влияния на эту политику, прежде всего на распределение финансирования для реализации научных проектов. Об этом свидетельствуют сами принципы и алгоритмы разработки пятилетних государственных планов по развитию науки и техники. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике (ГКНТ), один из узловых центров принятия решений в области научной политики позднего СССР, при составлении этих планов, согласно приказу «О порядке и сроках разработки проекта ГКНТ плана по развитию науки и техники», должен был руководствоваться решениями съездов компартий союзных республик, краевых и областных конференций, собраний активов партийных комитетов в районах и даже «письмами рабочих и колхозников» и т.д. Ясно, однако, что ключевыми здесь были решения съездов КПСС и ее Центрального комитета, а также Совета министров СССР и Госплана. Впрочем, университеты могли принять участие в этом процессе: расчетные показатели по затратам на науку и развитие научной базы формально составлялись «на основе предложений министерств и ведомств СССР и Советов министров союзных республик» (РГАЭ. Ф. 9480. Оп. 13. Д. 197. Л. 164). В данном аспекте велика была роль влиятельных посредников – глав министерств высшего и среднего специального образования (МВ и ССО) РСФСР, а также СССР. Им были подведомственны университеты. От этих посредников во многом зависели перспективы университетской науки. К ним преимущественно направлялись «прошения» о дополнительном финансировании, которые во множестве отложились в российских архивах.
Однако уже в период реализации пятилетних планов развития науки и техники список адресатов ректоров и профессоров университетов расширялся. Начиная с 1920-х гг., ученые обзаводились связями в высших партийных кругах. Это был надежный способ обеспечить стабильность финансирования научной работы. Тогда же при участии самих ученых начала складываться сложная система управления наукой. Устройство этой системы «позволяло ученым маневрировать в созданном их усилиями архипелаге науки» [ Колчинский , 2003, с. 478]. 1950– 1980-е гг. характеризовались расширением сотрудничества институтов и вузов в рамках работы над определенными тематиками. Это было по преимуществу связано с развитием междисциплинарных исследований, требовавших выхода за стены родного учреждения. Наступало время союзов учреждений, зачастую принадлежавших разным ведомствам [ Лахтин , 1990, с. 13].
Централизованная научная система разбилась на секторы, управление и финансирование которых были раздельными. Коммуникация внутри этого «архипелага» была непростой. Преодоление ведомственных барьеров для многих университетов было почти нерешаемой задачей.
Но, достигнув этого, университеты получали уникальную возможность присоединиться к приоритетно финансируемым академическим и отраслевым проектам. 29 января 1986 г. директор Научно-исследовательского института прикладной математики и механики ТГУ А. Д. Колмаков в ходе заседания Ученого совета университета признался, что решения Госплана о серийном выпуске разработанных в вузе аппаратов порошковой технологии удалось добиться, только «преодолев могучие ведомственные барьеры» (ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 6964. Л. 24).
Для Томского университета это был не первый опыт маневрирования в аппаратной империи советской науки. В те же 1980-е гг. ТГУ стал единственным вузом, который решением ЦК КПСС и Совета министров СССР был включен в качестве исполнителя в межотраслевой научно-технический комплекс «Термосинтез». ТГУ в качестве головной организации разрабатывал программу «Социально-экономические проблемы интенсивного хозяйственного освоения в Сибири». В 1985 г., в период подготовки названной программы, Ю. С. Макушкин, ректор ТГУ в 1983–1992 гг., признавался в интервью: «…окончательно вопрос о конкретных сроках разработок еще не решен. Для этого необходима соответствующая материальная база. Сейчас ректорат добивается в Совете министров, Госплане, ГКНТ СССР, Минвузе РСФСР финансового обеспечения программы. Надеюсь, что вопрос будет решен положительно» (За советскую науку, 1985). Чтобы участие университета в такого рода проектах стало возможным, Макушкин обзаводился связями и в Сибирском отделении АН СССР. Еще с 1950-х гг. финансирование исследовательских работ в университете за счет госбюджетных и хоздоговорных (исследования по заданиям отраслевых институтов и предприятий) источников постоянно росло. В 1980 г., например, когда праздновался 100-летний юбилей ТГУ, общий годовой объем финансирования научно-исследовательских работ в нем составил 15 млн рублей, из них 9 млн руб. – по хоздоговорам [Томский университет, 1980, с. 405–406].
Такое соотношение было характерно для авторитетных в научном отношении вузов, чьи НИИ и проблемные лаборатории были включены в комплексные научно-технические программы и имели соответствующий размер госбюджетных средств на исследования, тогда как у менее развитых вузов нередко целых 80–90 % всего объема научных исследований приходилось на долю хозяйственных договоров с предприятиями (ГАРФ. Ф. Р-8080. Оп. 2. Д. 502. Л. 9) [ Лахтин , 1990, с. 72]. Классические университеты особо гордились экономическими эффектами от внедрения в народное хозяйство разработок своих сотрудников.
Успех прикладных исследований стал весомым аргументом при коммуникации университетов с властью в связи с необходимостью дополнительной финансовой поддержки. Совет министров и ГКНТ рассматривали хозрасчетные научные исследования как инструмент использования научных возможностей университетов и вузов в целом (РГАЭ. Ф. 9480. Оп. 13. Д. 1002. Л. 91). В 1978 г. было создано Хозрасчетное научное объединение МВ и ССО РСФСР. Вошли в состав этого объединения 79 вузов страны, целью которого было стимулирование решения «важнейших научно-технических проблем межотраслевого и отраслевого характера с достижением конкретных научных результатов» (Там же. Л. 92). И хотя эта инициатива сулила финансовые преференции, все же университеты не были свободны в выборе направлений исследования: задачи решались преимущественно в русле постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР, ГКНТ, Госплана и АН СССР. Задачей университетов было встроиться в «чужие» проекты.
Нельзя сказать, что используемые университетами методы борьбы за научное лидерство привели к их значительному обогащению по сравнению с той же Академией наук. Так, например, если в 1987 г. на одного работающего в науке сотрудника ТГУ финансирование составляло 7400 рублей, то аналогичный показатель по АН СССР равнялся 9000, а в отраслевой науке – 24 000 рублей (ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 7096. Л. 14).
ГКНТ и МВ и ССО РСФСР, от решений которых зависело финансовое благополучие университетов, поощряли прикладные исследования. Разумеется, это создавало ситуацию, в которой доля сотрудников, проводивших фундаментальные исследования, сокращалась. Данная проблема только обострялась по мере углубления экономического кризиса в СССР 1980-х гг., когда партия и правительство все более систематически навязывали университетам принцип «самообеспечения». И ранее власть ставила университеты в положение, в котором их развитие зависело от уже накопленного потенциала. Это создавало ситуацию замкнутого круга: для достижения показателей в научно-исследовательской работе требовалось финансирование, а для получения финансирования необходимы были высокие показатели в научноисследовательской работе. Ставка на сильнейших и приспособленных привела к формированию иерархии университетов в позднем СССР.
Своеобразным слепком сложившейся иерархии университетов стал список 70 вузов-лидеров в научном отношении, определенный совместным Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 6 апреля 1978 г. «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». В данный список вошли 20 университетов, в том числе все, за исключением одного – Пермского, существовавшие еще в Российской империи: Московский, Ленинградский, Казанский, Томский, Саратовский, Киевский, Харьковский, Одесский, Вильнюсский, Тартуский (О повышении эффективности научно-исследовательской работы…, 1978).
Ранее, в 1966 г., ЦК КПСС и Совет министров СССР определил 25 ведущих вузов страны, выполняющих научные исследования, имеющие важное народнохозяйственное значение (в перечень вошли, в частности, Московский и Казанский университеты). Данным вузам были выделены дополнительные штаты профессорско-преподавательского и научновспомогательного персонала. Те университеты, которые не были удостоены подобной чести, старались попасть в названные списки, для чего, однако, нужно было продемонстрировать ту пользу, которые они приносят стране.
Заключение
Путь, который прошли классические университеты в позднесоветский период, во многом схож с западным, породившим модель предпринимательского университета, хотя пролегали эти пути в разных контекстах. Столкнувшись в 1980–90-е гг. с сокращением государственного финансирования и запросами новых поколений студентов, европейские университеты, сумевшие принять этот вызов, пошли на существенное изменение облика классического университета. Эрозия оснований создавала существенные риски для идентичности университетов, однако не меньшие риски возникали при выборе альтернативной стратегии – погружения в традицию.
Университеты позднесоветского времени оказались в двойственном положении. С одной стороны, они сохраняли элитарный статус в иерархии советского высшего образования, напоминая о классических прототипах, а с другой – само их место в системе государственной поддержки науки угрожало этому статусу и отдаляло их от названных прототипов. Советские чиновники, одной рукой возродившие классические университеты, другой лишали их фундамента этой модели – возможности организовывать передовые научные исследования, которые, в отличие от дореволюционной ситуации, уже в первой половине XX в. требовали капитальных вложений. Асимметрия с социально-политической средой здесь была обусловлена не столько экстремальным консерватизмом университетов, сколько агрессивностью тех сил, которые намеревались изменить университет извне. Даже после реабилитации классического университетского образования в 1930-е гг. остались все предпосылки для его кризиса, развитие которого растянулось на всю дальнейшую советскую эпоху, а наследие этого кризиса ощущается до сих пор. Однако традиционное восприятие этого кризиса, с нашей точки зрения, не совсем корректно отражает действительность.
В условиях асимметричной конкуренции с Академией наук университеты приняли вызов, порожденный угрозой не столько стремительно уничтожить их, как это пытались сделать в конце 1920-х гг., сколько погрузить в состояние медленной деградации. Принять этот вызов смогли лишь избранные университеты. Это привело к возникновению иерархии, на вершине которой находились ведущие университеты, где имелись проблемные и отраслевые лаборатории, научно-исследовательские институты, работающие на общесоюзную тематику, где действовали на протяжении поколений сложившиеся научные школы. Но таких учреждений насчитывалось не многим более 10 % от общего количества высших учебных заведений.
Уже в 1980-е гг. прикладные исследования заняли доминирующее место в университетской науке. По данным на 1991 г., доля прикладных исследований в научно-исследовательской работе вузов СССР в целом составляла 60,9 %, а разработок – 22 %, в то время как фундаментальные исследования составили всего 17,1 % (Наука СССР в цифрах, 1991, с. 27). Старейшие университеты страны использовали все имевшиеся средства, чтобы сохранить образ классического университета, но по мере продвижению к этой цели сам образ становился все более искаженным.
Я. И. Кузьминов и М. М. Юдкевич обращают внимание на то, что многие советские вузы, выстоявшие в жесткой конкуренции за ресурсы в позднесоветский период, в дальнейшем стали участниками программы «5‒100» [ Кузьминов , Юдкевич , 2022, с. 471]. Добавим к этому, что сегодня те же вузы нередко входят в первую группу финансирования по программе «Приоритет ‒ 2030». Иерархия университетов, которую породила поздняя советская эпоха, во многом продолжает существовать и сегодня.
В современной России и противники, и сторонники университетского опыта СССР в области организации науки и высшего образования сходятся во мнении об отсутствии преемственности с этим прошлым. Между тем российские университеты, безусловно, являются наследниками позднесоветского периода. Эта «наследственность» дает о себе знать как в негативных (малая поддержка фундаментальных исследований и, в частности, скромное финансирование гуманитарных наук), так и в позитивных аспектах: ведущие российские университеты сегодня демонстрируют высокую адаптивность к изменчивой политике государства и запросам общества.
Еще в позднесоветское время стремившиеся сохранить свой традиционный облик университеты выбирали стратегию, парадоксально менявшую этот облик. Данный поворот отчасти произошел и в западном контексте, где в условиях рыночной экономики университеты стали часто выполнять сугубо сервисные функции. Вопрос о том, были ли на этом пути безвозвратно преодолены границы классического университета, является болезненным как в России, так и в Европе. Так или иначе, университеты позднесоветского времени часто отказывались от жесткого противопоставления традиции и модернизации. В этой ситуации, однако, сами границы модели классических университетов утратили свои четкие очертания.
Список литературы Асимметричная конкуренция: классические университеты и борьба за научное лидерство в позднесоветский период
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-605. Оп. 1. Д. 2593; Ф. Р-8080. Оп. 2. Д. 502.
- Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 2612; Д. 6905; Д. 6964; Д. 7096.
- Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 17. Д. 434; Д. 533; Оп. 37. Д. 77; Д. 109; Оп. 61. Д. 66.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 9480. Оп. 13. Д. 197; Д. 1002. Гвишиани Д.М. Мосты в будущее // Гвишиани Д.М. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу. М.: Канон+: Реабилитация, 2007. С. 292-580.
- За советскую науку. Орган парткома ректората, комитета ВЛКСМ и профкома работающих и учащихся Томского Ордена Октябрьской революции, Ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В.В. Куйбышева. Томск, 1985.
- Народное хозяйство СССР в 1960 г. Статистический ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. 943 с.
- Наука СССР в цифрах: 1990. Краткий статистический сборник. М.: Центр исследований и статистики науки, 1991. 58 с.
- О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. М.: Политиздат, 1978. 22 с.
- Аблажей Н.Н, Водичев Е.Г, Красильников С.А. Университет и Академия наук: pas de deux в ритмах эпохи // Социология науки и технологии. 2021. Т. 12, № 1. С. 113-135.
- Водичев Е.Г. Советская научная политика в период «позднего сталинизма» (вторая половина 1940-х - начало 1950-х гг.): маркеры и метаморфозы // Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 2 (28). С.41-53.
- ДмитриевА.Н. Переизобретение советского университета // Логос. 2013. № 1 (91). C. 41-64.
- Колчинский Э.И. Советизация науки в годы НЭПа (1922-1927): послереволюционный кризис и поиск форм сотрудничества // Наука и кризисы: Историко-сравнительные очерки / под ред. Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 440-549.
- Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России: как это работает. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 616 с.
- ЛахтинГ.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. 224 с. Наука большой страны: советский опыт управления / под ред. Е.А. Долговой; авт. М.В. Грибовский, И.Г. Дежина и др. М.: Изд-во РГГУ, 2023. 625 с. Томский университет. 1880-1980. Томск: ТГУ, 1980. 431 с.
- David-Fox M. The Assault on the Universities and the Dynamics of Stalin's "Great Break", 1928-1932 // Academia in Upheaval: Origins, Transfer, and Transformation of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe / M. David-Fox, G. Peteri (ed.). Westport, Connecticut, London: Bergin & Garvey, 2000. P. 73-104.
- Graham L.R. Science in Russia and Soviet Union: A Short History. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 351 p.
- Graham L.R. The Formation of Soviet Research Institutes: A Combination of Revolutionary Innovation and International Borrowing // Social Studies of Science. 1975. Vol. 5, no. 3. P. 303-329.
- Josephson P. New Atlantis Revisited. Akademgorodok, the Siberian City of Science. Princeton: Princeton University Press, 1997. 310 p.
- Kassow S.D. The University Statute of 1863: a Reconsideration // Russia's Great Reform, 1855-1881 / B. Eklof, J. Bushnell, L. Zakharova (ed.). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994. P.247-263.
- Kojevnikov A. The Phenomenon of Soviet Science // Osiris. 2008. Vol. 23, no. 1. P. 115-135.
- Readings B. The University in Ruins. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1996. 250 p.