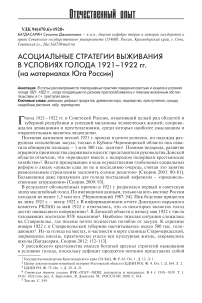Асоциальные стратегии выживания в условиях голода 1921-1922 гг. (на материалах юга России)
Автор: Багдасарян Сусанна Джамиловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются повседневные практики поведения крестьян и казаков в условиях голода 1921-1922 гг., когда голодающие по-разному приспосабливались к тяжелым жизненным обстоятельствам, в т.ч. преступая закон.
Девиации, дефицит продуктов, древесная кора, людоедство, преступления, суицид, съедобные растения, табу, трупоедство
Короткий адрес: https://sciup.org/170168402
IDR: 170168402 | УДК: 94(470.6)919209
Текст научной статьи Асоциальные стратегии выживания в условиях голода 1921-1922 гг. (на материалах юга России)
Г олод 1921–1922 гг. в Советской России, охвативший целый ряд областей и губерний республики и унесший миллионы человеческих жизней, сопровождался девиациями и преступлениями, среди которых наиболее ужасающим и отвратительным является людоедство.
Посевная кампания весной 1921 г. прошла в целом успешно, но надежды разрушила сильнейшая засуха; только в Кубано-Черноморской области она охватила обширную площадь – 1 млн 300 тыс. десятин 1 . Помимо недорода, развитие аграрного производства сдерживали налоги: представители руководства Донской области отмечали, что «продналог вместе с недородом подорвали крестьянское хозяйство» 2 . Власти предержащие в ходе осуществления глобальных социальных реформ о людях «думали едва ли не в последнюю очередь, считая это занятие равносильным стремлению заслонить солнце решетом» [Скорик 2001: 80-81]. Большевики даже придумали для голода постыдный эвфемизм – «продовольственные затруднения» [Скорик 2009: 93].
В результате обозначенных причин в 1921 г. разразился первый в советскую эпоху масштабный голод. По имеющимся данным, только на юго-востоке России голодали не менее 1,5 млн чел. [Чернопицкий 1987: 54]. Пик бедствия пришелся на зиму 1921 г. – весну 1922 г. В информационном отчете Донецкого окружного комитета РКП(б) за май 1922 г. отмечалось, что «в некоторых волостях голод достиг наивысшего напряжения» 3 . В Донской области к началу мая 1922 г. число голодающих достигало 85% населения 4 . Наиболее тяжелая ситуация сложилась на Ставрополье, где посевы почти полностью погибли от засухи. К середине января 1922 г. в Ставропольской губернии насчитывалось около 500 тыс. голо-дающих 5 . Из-за голода на местах, в частности в юрте станицы Старочеркасской, закрывались школы, практически угасла вся культурная жизнь, закрывались школы [Багдасарян, Скорик 2012: 112-113].
У российского крестьянства имелся богатый арсенал стратегий выживания в условиях голода, поскольку дефицит продуктов питания представлял собой обычное явление в российской деревне. Крестьяне растягивали небольшой запас хлеба, собранный по итогам неурожайного года, при этом всячески стараясь сохранить хотя бы минимум зерна на посев будущей весной. Если из-за засухи не удавалось обеспечить скотину фуражом, то владельцы пускали часть поголовья на мясо. Вот когда крестьяне могли поесть мяса вволю, хотя особой радости они от этого не испытывали. Если же в хозяйстве удавалось создать хотя бы минимальный запас сена и соломы (о более сытных кормах, таких как овес, ячмень и пр., в условиях недорода речь не шла), то крестьяне и казаки старались сохранить корову до последнего. Как вспоминал житель кубанской станицы Новощербиновской Николай Каламбет, его отец осенью 1921 г. обменял всех имевшихся в хозяйстве лошадей на коров, обеспечивавших семью молоком, хотя это обещало серьезные проблемы во время будущей пахоты и сева [Каламбет 2007: 80].
Преобладающую, а в худшем случае – единственную часть продовольственного обеспечения населения голодающих регионов составляли дары природы. Повезло тем казакам и крестьянам Юга России, которые жили у рек либо озер и могли ловить рыбу. Отчаявшееся население Нижнего Дона весной 1921 г. занималось хищническим ловом рыбы и, хотя эти действия противоречили традиции и закону, ибо во время нереста лов рыбы воспрещался, власти ничего не могли с этим поделать 1 . В случае хороших уловов местное население практически не ощущало голода и могло даже с выгодой приторговывать продуктами своего промысла. А.И. Микоян вспоминал, как весной 1922 г., т.е. в самый разгар голода, М.И. Калинин посетил расположенную неподалеку от Ростова-на-Дону станицу Елизаветинскую. Местные казаки, встречая «всероссийского старосту», поднесли ему не хлеб-соль, а рыбью икру и пояснили удивленному гостю: «Чем промышляем, тем позвольте и приветствовать!» [Микоян 1975: 317]. Помимо рыбы, водоемы снабжали оголодавших людей всякой другой живностью, обитавшей в них, – улитками, ракушками и т.д.
Сельские жители знали огромное число дикорастущих съедобных растений и кореньев, употребление которых в пищу считалось обыденным делом, во всяком случае для сельской детворы. На Юге России «в голодные годы в пищу употреблялись: лебеда, молочай, козельцы, калачики, белена, катран, сурепка, латук, резак, шалфей, пастушья сумка, подземные части крокуса, тюльпанов, рогоза, арония, корни лопуха. В качестве заменителя муки использовали буковые орешки, которые перемалывали пополам с кукурузой, использовали и желуди» [Семенцов 2007: 147]. В пищу шла даже древесная кора, для чего ее предварительно размалывали до консистенции, напоминающей муку. Затем из этой муки пытались печь лепешки, а если имелась в наличии настоящая мука, то ее смешивали с древесной (в наши дни такой состав считается лечебным, но все дело в пропорциях). В начале марта 1922 г. партработники Шахтинского уезда Донской области констатировали: «Голод ужасный, кора съедена вокруг многих хуторов…» 2 Старожилы донской станицы Мелиховской вспоминали, как во время голода 1921–1922 гг. многие станичники, «стремясь выжить, …размалывали кору деревьев», толкли в ступах полову, сухую траву, главным образом «перекатиху» (перекати-поле), ели мытые и просушенные корневища камыша и чакана (рогоза), пекли суррогатные лепешки [Шевченко 2005: 31].
В надежде утолить голод люди ели все, что можно было съесть. Как констатировали современники в 1922 г., соседи «воруют друг у друга собак и кошек и едят»,1 ловят крыс,2 «кошки, собаки и падаль считаются лучшим лакомством» [Шадрина, Табунщикова 2013: 185]. Исчерпав все запасы и возможности, крестьяне нередко сознательно шли на самоубийство, обрекая на смерть и членов семьи. Встречаются упоминания о «случаях самоубийства целых семейств посредством угара»3.
Последним способом выживания в голодающих регионах становилось людоедство. К этому табуированному, асоциальному способу выживания прибегнуть решались далеко не все жители села, даже находившиеся в отчаянном положении, на грани голодной смерти. Каннибализм заслуживает осуждения, но здесь существует разная степень вины. На основании источников можно выделить две формы людоедства во время голодовок, в т.ч. и в 1921–1922 гг., различавшиеся по тяжести содеянного: 1) трупоедство, т.е. поедание частей тел умерших людей (умирали они в это время, как правило, от голода или обострившихся в связи с голодом болезней) и 2) убийство тех или иных лиц с целью их съедения.
Зимой 1921–1922 гг., когда «голод дошел до ужасных размеров», крестьяне стали употреблять «в пищу трупы мертвецов, вырывая их из могил» 4 . В частности, старожилы станицы Мелиховской утверждали, что в данный период здесь «имели место и случаи трупоедства» [Шевченко 2005: 31]. Нередко до погребения мертвых дело не доходило: в голодавших селах и станицах Юга России, где сложилось наиболее тяжелое положение и умерших от голода и болезней людей некому было хоронить, обезумевшие от недоедания селяне поедали непогребенные трупы соседей.
Полагаем, трупоедство являлось менее тяжким преступлением, чем убийство с целью поедания себе подобного. Но, судя по частоте упоминаний в источниках, людоедство получило более широкое распространение, чем трупоедство. Отнюдь не единичные свидетельства о людоедстве на Юге России содержатся в документах начала 1920-х гг. Так, в феврале 1922 г. на общегородском собрании женщин Новочеркасска было «указано на ряд кошмарных случаев людоедства» [Шадрина, Табунщикова 2013: 150]. В марте 1922 г. члены Донского комитета компартии отмечали, что жители станицы Ермаковской Морозовского округа дошли до людоедства, и в то же самое время сотрудники Донисполкома констатировали случаи людоедства в селах и станицах 5 , а Донецкий окружком РКП(б) подчеркивал: «В деревне в связи с голодом замечены случаи людоедства и трупоедства» 6 . В апреле 1922 г. Верхне-Донской окружком компартии подтверждал случаи людоедства в станицах Вешенской и Мигулинской [Шадрина, Табунщикова 2013: 185].
Жуткие подробности людоедства содержатся и в прессе. Так, в одной из публикаций газеты «Советский Юг», распространявшейся на Дону, Кубани, Ставрополье, Тереке и в национальных регионах Северного Кавказа, повествуется о некоей Евфросинье Сероштанниковой и ее сожителе, съевших 9 человек. Первой жертвой Сероштанниковой стали две ее родные сестры, дети соседок Поповой и Лепехиной: по трое детей каждой из них. Тут же заметим, что детоубийство практиковалось многими людоедами, ибо заманить ребенка в дом и справиться с ним значительно проще, чем с взрослым человеком. Особый трагизм данной ситуации заключался в том, что соседки сами просили Сероштанникову устроить своих ребятишек в детский приют, куда она сумела поместить собственных детей.
Об истинных масштабах каннибализма в советской деревне в 1921–1922 гг., в т.ч. в селах и станицах Дона, Кубани и Ставрополья, судить затруднительно. В документах не приводится соответствующая статистика, а лишь отмечается не единичность таких случаев. Например, в начале марта 1922 г. в Первом Донском округе были «зарегистрированы несколько случаев людоедства и трупоедства» 1 . В ряде документов содержатся утверждения, что кое-где людоедство «принимает массовые формы» 2 . Вопреки подобным заявлениям, как мы полагаем после изучения комплекса источников, широкого распространения эта девиация и способ выживания в условиях голода не получила. Очевидно, ощущение массовости было обманчивым, порожденным шокирующим влиянием людоедства на современников, и они, ужасаясь таким деяниям, испытывали склонность несколько случаев воспринимать как множественность. Это подтверждают и источники. В частности, по сообщению сотрудников органов госбезопасности, к началу мая 1922 г. в Донской области зарегистрированы всего 3 случая людоедства и, для сравнения, 1 043 случая голодной смерти 3 . Большинство крестьян и казаков Юга России, страдая и умирая от голода, не поддавались животным инстинктам и не нарушали древнее табу на поедание человеческой плоти.
Подчеркнем, что в большинстве случаев трупоедство, и особенно людоедство, не оставались без наказания. Сообщения представителей партийно-советского руководства и сотрудников органов госбезопасности о случаях каннибализма нередко заканчиваются констатацией, что «людоеды изолируются» 4 , т.е. подвергаются аресту. Бежавшие и пытавшиеся скрыться от правосудия людоеды порой попадали на скамью подсудимых через несколько лет после окончания голода 1921–1922 гг. Так случилось с уже упоминавшейся Сероштанниковой. Публикация о суде над ней содержится в номере «Советского Юга» за июль 1925 г. Одна из несчастных матерей приехала в детский приют, куда, по уверениям Сероштанниковой, та устроила ее детей. В приюте, однако, о детях ничего не знали, и испуганная мать, вместе с соседями призвавшая Сероштанникову к ответу, нашла у нее в доме вещи своих малышей. После этого Сероштанникову арестовали, а вот ее сожитель Солодун скрылся. «Гуманный советский суд» приговорил Сероштанникову к 10 годам лишения свободы, причем защитник просил не выносить ей сурового наказания ввиду голода и невежества, и она сама заявляла: «Милости суда прошу».
Итак, каннибализм являлся последним средством для населения советской, в частности южно-российской, деревни спастись от голодной смерти в 1921– 1922 гг. Отчаявшиеся жители села по большей мере искали иные способы утолить голод – с помощью экономии продуктов, использования даров природы и т.д. В крайнем случае они отваживались на суицид. Масштабы каннибализма оставались весьма скромными, вопреки общественному мнению, склонному преувеличивать число подобных случаев. Несмотря на страдания от голода и угрозу близкой смерти от него, подавляющее большинство крестьян и казаков Дона, Кубани и Ставрополья находили в себе силы оставаться людьми и отказывались спасать себя и своих близких путем использования такого табуированного, асоциального средства, как людоедство.
Список литературы Асоциальные стратегии выживания в условиях голода 1921-1922 гг. (на материалах юга России)
- Багдасарян С.Д., Скорик А.П. Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и повседневность в южно-российской деревне в 1920-е годы. Новочеркасск: Лик, 2012. 239 с.
- Каламбет Н. 2007. Об отце и его семье. -О прошлом и настоящем: альманах. Вып. 1. Ст. Новощербиновская
- Микоян А.И. 1975. В начале двадцатых… М.: Политиздат. 384 с
- Семенцов М.В. 2007. Историко-экологические аспекты хозяйственного освоения Кубани казачеством в XIX -начале XX вв. -Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2006 год. Дикаревские чтения (13). Материалы Северо-Кавказской научной конференции (науч. ред., сост. М.В. Семенцов). Краснодар
- Скорик А.П. 2001. Проблемы экспериментов и ошибок в историческом процессе: дис.... д.филос.н. Ростов н/Д. 361 с
- Скорик А.П. 2009. Казачество Юга России в 30-е годы ХХ века: исторические коллизии и опыт преобразований: дис.... д.и.н. Ставрополь. 540 с
- Чернопицкий П.Г. 1987. Деревня Северокавказского края в 1920-1929 гг. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та. 230 с
- Шадрина А.В., Табунщикова Л.В. 2013. Изъятие церковных ценностей в Донской области. 1922 год. Сб. документов (отв. ред. А.В. Венков, науч. ред. Н.В. Киселева]. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 418 с
- Шевченко В. 2005. Станица сердцу дорогая. Историко-краеведческое повествование в 2-х ч. Ч. 2. Ростов н/Д: Приазовскiй Край