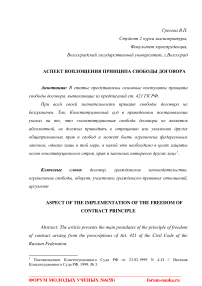Аспект воплощения принципа свободы договора
Бесплатный доступ
В статье представлены основные постулаты принципа свободы договора, вытекающие из предписаний ст. 421 ГК РФ. При всей своей значительности принцип свободы договора не безграничен. Так, Конституционный суд в приведенном постановлении указал на то, что «конституционная свобода договора не является абсолютной, не должна приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод и может быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц»[40].
Договор, гражданское законодательство, ограничение свободы, оборот, участники гражданско-правовых отношений
Короткий адрес: https://sciup.org/140288674
IDR: 140288674
Текст научной статьи Аспект воплощения принципа свободы договора
Признание за императивными нормами гражданского законодательства характера ограничения принципы свободы договора вытекает из предписаний п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ, в соответствии с которыми участники оборота свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Данное утверждение соотносится с разъяснениями, которые даны Высшим Арбитражным Судом РФ в пп. 1-4 Постановления о свободе договора.
Описанные ограничения свободы договора оправданы, поскольку в отсутствие таковых, гражданский оборот, при текущем уровне развития правовой сознательности его участников, не смог бы существовать в рамках правового поля. В книге «Договорное право. Общие положения» ее авторы отмечают, что придание свободе договора абсолютного характера повлекло бы за собой немедленную гибель экономики страны, ее социальных и иных программ, а с ними вместе поверг в хаос само общество2.
Тем не менее, на текущий момент, в обороте и его регулировании довольно явно проявляется тенденция к расширению пределов договорной свободы, предоставлению большего количества прав его участникам.
Тенденция эта обозначилась с принятием Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». А.Я. Ахмедов в статье «Развитие принципа свободы договора в условиях повышения требований к правовой культуре субъектов гражданского права» отмечал, что расширение договорной свободы вызывает необходимость установления более высоких требований к поведению участников гражданских правоотношений, связанных с определенным уровнем добросовестности, справедливости, учета прав и законных интересов контрагентов3.
С данным утверждением нельзя не согласиться. Действительно, не вызывает сомнений тот факт, что большая свобода требует и большей ответственности от участников оборота.
Такой ход развития оборота (насколько можно судить о мотивах, которыми руководствуется законодатель) повлек включение в Гражданский кодекс целого ряда норм, устанавливающих повышенные требования к поведению участников. К таковым следует отнести:
-
- ст. 393.1 ГК РФ, о возмещении убытков в случае прекращения договора по вине одной из сторон;
-
- ст. 431.1 ГК РФ, требующую добросовестности при вступлении в переговоры и их проведению;
-
- ст. 431.2 ГК РФ, которая предала легальную силу заверениям при заключении договора;
-
- пп. 5-7 ст. 450.1 ГК РФ, закрепляющие запрет противоречивого поведения (принцип эстоппель), и др.
Приведенные положения закона и тенденция в целом, направлены на соблюдение принципа добросовестности в условиях расширенных пределов договорной свободы и обеспечения формального равенства участников оборота при их экономическом и фактическом неравенстве.
Далее отметим, что принцип свободы договора в гражданском праве тесно взаимодействует с принципом обязательности контрактов - pacta sunt servanda, что в переводе с латинского означает «договор должен исполняться». Согласно этому принципу, никто не вправе попирать волю сторон, что касается как правоприменительных органов (в первую очередь -суда), так и вообще любых участников правоотношений, в том числе самих сторон договора. Между участниками гражданско-правовых отношений устанавливается базовая договоренность о соблюдении заключённых соглашений, которые подлежат в случае их невыполнения одной из сторон судебной защите. Свобода договора в сочетании с приданием условиям договора судебной защиты - наиболее эффективная регулятивная стратегия, которая обеспечивает стабильность деловых связей и создает уверенность в исполнении принятых обязательств.
Особенностью договора в условиях рынка является свободное волеизъявление сторон, автономия их воли. Договор является актом, выражающим добровольное соглашение сторон действовать совместно в интересах обоюдной выгоды. Нет взаимного согласия - нет договора. Именно поэтому пункт 1 статьи 421 ГК РФ не допускает понуждения к заключению договора.
Свобода договора совпадает со свободой сделок в части её внешнего проявления, которое касается неприкосновенности волеизъявления сторон для всех окружающих, будь то государственные органы, суд, любые иные правоприменительные органы, или любые иные. Многие учёные считают, что указанная возможность оговорена в нормах, посвящённых правоспособности граждан, а именно в статье 18 ГК, которая назвала в составе правоспособности граждан возможность совершения сделок и участия в обязательствах. Безусловно эта возможность предполагается и при осуществлении правоспособности юридических лиц, особенно тех из них, которые занимаются коммерческой деятельностью. Но и для остальных юридических лиц вступление в договорные связи составляет неотъемлемую часть их деятельности, какой бы характер она ни носила4.
С указанным мнением можно согласиться, так как правоспособность, несмотря на её более широкий характер, включает в себя возможность субъектов гражданского права совершать сделки и участвовать в обязательствах, а значит и заключать договоры. При применении судами нормы о свободном заключении договора, в решениях указывается, например, следующее: статьёй 421 ГК РФ закреплён принцип свободы договора, который означает, что каждый субъект предпринимательской деятельности вправе сам решать, заключать ему договор или нет; свободен он и в выборе контрагента по договору с момента заключения договора он вступает в силу как регулятор отношений участников в соответствии с положениями договора, определенными сторонами по своему усмотрению…субъекты гражданских правоотношений – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны серьёзно относиться к выбору своих контрагентов, определении предмета и условий договора, поскольку в противном случае велика вероятность утраты договором его неотъемлемого признака – стабильности договора5.
Анализируя указанное решение суда, можно сделать вывод о том, что стабильность договора, а значит и всего гражданского оборота, основывается на принципе свободы договора. При этом суды рассматривают стороны договора как рациональных участников гражданского оборота, признавая и уважая их волю, выраженную в договоре. В этом плане свобода заключения договора имеет особую ценность. Эта свобода первична по отношению ко всем остальным, и все остальные так или иначе зависят от неё, также она связана с диспозитивностью и инициативой как основных векторов гражданско-правового регулирования. Действительно, если бы у сторон не было свободы в заключении договора, то не было бы смысла в других элементах исследуемого принципа: свободе выбора вида договора или в определении условий договора6.
Рассмотрим вопросы реализации положения о свободе договора на примере заключения договора присоединения.
Договор присоединения в российском праве не зря предлагается понимать как «особую правовую конструкцию». Подразумевая, по своей сути, полное ограничение прав одной из сторон участвовать в определении условий заключаемой сделки (такая возможность является одной из двух главных составляющих принципа свободы договора), он в то же время является ярким проявлением договорной свободы7.
Оценка договора присоединения как завоевания принципа свободы договора предопределена тем, что очень долгое время в доктрине господствовало мнение о том, что в качестве договора может быть квалифицирована только сделка, являющая собой воплощение двух свободных воль. Такой вывод делался со ссылкой на легальное определение договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ), которое признает статус договора только за соглашением, то есть согласованием воль двух лиц об установлении, изменении, прекращении гражданских прав и обязанностей.
О необходимости наличия соглашения законодатель упоминает дважды: в первый раз как условие возникновения договорного обязательства, во второй раз как основное условие и предпосылка определения конкретного правоотношения как договора. В связи с этим, право стороны на определение условий возникает вначале до договора - при обсуждении его условий, а в дальнейшем объективируется в самом договоре, становясь необходимым условием существования договора как такового.
Однако, стоит отметить, что согласование воль в договоре присоединения имеет место – стороны посредством сделки желают достичь некоего правового результата (купить/продать; арендовать/сдать в аренду и т.д. и т.п.), который они свободно определяют, а вот условия достижения такого результата (собственно условия взаимодействия, закрепляемые в договоре) диктуются одной из сторон. Да, ограничение свободы договора имеет место, однако совершенная в описанном порядке сделка все же представляет собой договор.
Особенностью договора присоединения, отличающей его от других правовых конструкций, имеющих в своей основе ограничение свобод их участников (как то публичный договор, ограничение договорной свободы в рамках которого направлено на недопущение дискриминации) в том, что он возник не на основе социальной потребности ограничения прав доминирующих участников по отношению к зависимым, а как реакция законодателя на уже фактически сформировавшиеся отношения.
Специфичность конструкции в том, что так как ограничение свободы договора имеет свой источник в самом договоре, при облечении в договорную форму, он представляет проявление принципа свободы договора. В таковом статусе договор присоединения позволяет сильной стороне свободно определять диктуемые условия, в том числе, включать в договор (стандартный или разработанный для конкретного контрагента – значения не имеет) положения выгодные ей, но обременительные для присоединяющейся стороны. В условиях низкой правовой сознательности участников оборота и их фактического неравенства (несмотря на то, что экономическое равенство субъектов возведено на уровень принципа), которые имеют место в текущих правовых реалиях, такую свободу требуется ограничивать, и, в определенных случаях, защищать присоединяющуюся сторону.
При этом стоить отметить, что обнаруживаемая в доктрине возможность отказаться от заключения договора, условия которого диктуются второй стороной без права их изменить, о соблюдении принципа свободы договора не свидетельствует. Хотя в литературе очень часто высказывается и аргументировано обосновывается противоположная точка зрения.
Неравенство переговорных возможностей – объективно существующая действительность. Следует согласиться с А.И. Савельевым, который утверждает, что: презумпция равенства сторон договора, пронизывающая классическое договорное право, уже более не соответствует современным реалиям, где на смену ей пришла прямо противоположная презумпция - их экономического и (или) информационного неравенства8.
Свобода договора позволяет сторонам заключить сделку на любых условиях, но включение в формуляр обременительных для одной из сторон условий, в том случае, если они не обоснованы экономически в этом же контракте (либо отношениях сторон в целом) какими-то дополнительными преференциями присоединяющемуся, не должно допускаться законом (принцип ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения).
В противном случае, в качестве допустимой осознанно определяется ситуация, при которой крупные компании будут наполнять коммерческий оборот несправедливыми и недобросовестными условиями взаимодействия, а предпринимательский риск станет включать в себя негативные последствия вступления в отношения с недобросовестным лицом. При таком развитии ситуации требования закона к добросовестности участников гражданских правоотношений превратится в фикцию.
Патернализм в отношении предпринимателей действительно должен быть ограничен, однако, если в договор включено явно несправедливое и обременительное для одной из сторон условие, при том, что возможность
-
8 Савельев А.И. Договор присоединения как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых сделок в России: упущенные возможности и перспективы // М., 2014. Вып. 2. 543 с.
повлиять на его определение отсутствовала – отказывать в защите права нет оснований. В противном случае оборот придет к тому, что все сделки, будут заключены на невыгодных для одной из сторон условиях либо коммерческий оборот снизится, поскольку участники, соблюдая должную степень разумности, перестанут заключать сделки на таких условиях.
Аргумент о конкурентности рынка и возможности заключить договор с иным контрагентом не убеждает, поскольку для коммерческих организаций, доход которых зависит от количества заключённых сделок, повышенная щепетильность в выборе контрагента может привести к краху. Отстаивание в таких обстоятельствах абстрактного принципа свободы договора применительно к конкретному договору, заключенному в условиях ограничения свободы договора, представляется несправедливым.
В описанных условиях широкого распространения идей о главенствующем характере принципа свободы договора, появление конструкции договора присоединения расценивается в доктрине, в частности А.И. Савельевым, как реакция государства на наметившиеся тенденции оборота, дополнительный механизм контроля над справедливостью условий договоров, предоставляющих широкую сферу усмотрения судам, с закреплением в законодательстве общих принципов такого контроля.
Автор указывает, что принцип свободы договора сменяется принципом договорной справедливости, который означает обеспечение справедливости не только на стадии заключения договора (отсутствие обмана, угрозы, насилия и прочих пороков воли одной из сторон при заключении сделки), но и самих условий заключенного договора (т.е. справедливости содержания).
Таким образом, свобода заключения договора является первичным элементом свободы договора по отношению к двум другим. В связи с этим, законодатель неслучайно раскрывает этот элемент первым в нормах о свободе договора.
Список литературы Аспект воплощения принципа свободы договора
- Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2012 по делу N А41-38457/11 // Документ опубликован не был. СПС Гарант.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.
- Ахмедов А.Я. Развитие принципа свободы договора в условиях повышения требований к правовой культуре субъектов гражданского права // Правовая культура. 2016. № 2 (25). С. 26-32.
- Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. 528 с.
- Рыженков А.Я. Теоретические и философские проблемы толкования гражданско-правового договора // Юрист. 2018. № 7. С. 4-10.
- Савельев А.И. Договор присоединения как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых сделок в России: упущенные возможности и перспективы // М., 2014. Вып. 2. 543 с.
- Цвигун Н.В. Общие условия действительности гражданско-правового договора // Крымский Академический вестник. 2018. № 7. С. 138-141.