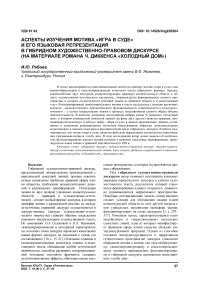Аспекты изучения мотива "игра в суде" и его языковая репрезентация в гибридном художественно-правовом дискурсе (на материале романа Ч. Диккенса "Холодный дом")
Автор: Рябова Ирина Юрьевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология и речевая деятельность
Статья в выпуске: 3 т.19, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается повествовательный мотив (на примере мотива «игра в суде») как сюжетообразующий и смыслопорождающий компонент текста гибридного формата. Процесс взаимодействия двух дискурсов, репрезентирующих правовую концептуальную область и область художественно-эстетического мастерства, сопровождается формированием единого пространства, в котором осуществляется трансфер знания из правовой области в художественный текст. Функционирование повествовательного мотива в тексте исследуется с позиции различных аспектов - аксиологического, прагматического, функционального, семантического и культурологического - с целью генерализации знания в процессе моделирования единого образа объекта действительности. В качестве материала исследования выбран роман Ч. Диккенса «Холодный дом», в котором доминантной сюжетной линией (на фоне двух других) является правовая, описывающая бесконечную судебную тяжбу. «Игра в суде» в данном произведении, являясь устойчивым и динамично развивающимся элементом повествования, обрастает дополнительными коннотациями и новыми смыслами в ризоматической среде гибридного дискурса. В работе подчеркивается, что мотив «игра в суде» является фабульно выраженным компонентом повествования, призванным вскрыть «злобу дня». В ходе исследования автор делает выводы об особенностях функционирования данного мотива в романе и выявляет смысловые трансформации, транслирующие новое знание о правовой действительности XIX в.
Гибридный дискурс, художественно-правовой дискурс, дискурс-мишень, дискурс-источник, повествовательный мотив, игра, аспект, фабульно выраженный компонент, ризоматическая среда, событийность, ситуативность
Короткий адрес: https://sciup.org/147238394
IDR: 147238394 | УДК: 81’42 | DOI: 10.14529/ling220304
Текст научной статьи Аспекты изучения мотива "игра в суде" и его языковая репрезентация в гибридном художественно-правовом дискурсе (на материале романа Ч. Диккенса "Холодный дом")
Гибридный художественно-правовой дискурс, представленный литературными произведениями с юридической сюжетной линией, призван осветить острые социальные проблемы правовой сферы жизни общества, требующие незамедлительных решений и радикальных трансформаций. Интеграция знания из двух полярно удаленных концептуальных областей – правовой и художественно-эстетической – создает особый формат дискурса, в котором трансфер знания о юридических реалиях из дискурса-источника (правовой дискурс) осуществляется в дискурс-мишень (дискурс художественно-эстетического творчества) главным образом посредством языкового инструментария художественного текста. По замечаниям О.А. Солоповой и К.А. Наумовой, «взаимопроникновение и интеграция характеристик тех или иных типов дискурса порождает качественно новый формат дискурса, не сводимый к сумме его составляющих» [10, с. 15–21]. Отдельные единицы и сложноорганизованные комплексы единиц художественного текста, обладающие особой эстетической значимостью, способны расширять интерпретационный потенциал текстового фрагмента, создавать мультипликативные эффекты, обогащая единое смы- словое пространство, в котором осуществляется процесс гибридизации.
Под гибридным художественно-правовым дискурсом автор понимает интеграцию языковых маркеров юридического дискурса и единиц художественного текста, результатом которой становится формирование единого открытого, динамично развивающегося нарративного пространства. Подобная интеракционная модель коммуникации создает условия для обогащения знания одной концептуальной области за счет другой посредством уникальных механизмов трансфера знания, функционирующих на стыке дискурсов [3, с. 297– 317]. Романная проза, характеризующаяся взаимодействием и «переключением» нескольких сюжетных линий, одна из которых манифестирует правовую сферу жизни социума, обладает интердискурсивной природой. Одним из способов создания интердискурсивности в нарративном гетерогенном пространстве дискурса становится обращение автора к мотиву как текстообразующему, сюжетоорганизующему и смыслопорождающему элементу произведения, функционирующему в гибридном дискурсе, призванном транслировать «злобу дня».
В основу настоящего исследования положена гипотеза о формировании художественноправового дискурса как социокультурной практики, тесно связанной с социальным, политическим и правовым контекстом, основополагающим звеном которой (практики) становится мотивная специфика сюжетосложения в литературном произведении. Цель и задачи работы заключаются в выявлении теоретико-методологических обоснований для выделения мотива «игра в суде» в романе Ч. Диккенса «Холодный дом», а также средств и приемов рече-творчества, применяемых для актуализации его роли в процессе описания правовых реалий исторической эпохи Англии в первой половине XIX в.
Роман Ч. Диккенса «Холодный дом», взятый в качестве материала исследования, описывает мировидение и миропонимание буржуазного общества рассматриваемой исторической эпохи на фоне бесконечной судебной тяжбы «Джарндисы против Джарндисов», продолжающейся в Канцлерском суде более полувека [18]. Несмотря на то, что в романе присутствуют три сюжетные линии -романтическая, правовая и детская, доминантной становится правовая, сквозь призму которой интерпретируются романтические события, в которые вовлечены герои, и изображаются детские судьбы. По замечаниям В.В. Набокова, «.. .романтический сюжет романа - иллюзия, он не имеет большого художественного значения. В книге есть нечто получше печальной истории леди Дедлок. Нам понадобится некоторая информация об английском судопроизводстве, но в остальном все только игра» [5, с. 102]. Юрист -правовед П. Арчер, работающий в жанре юридической публицистики, замечает следующее: «Описания Диккенса очень злы, но они едва ли далеки от действительности...» [1, с. 52-53].
Для достижения цели и решения поставленных задач исследования, и применительно к настоящему роману, используются общенаучные методы (гипотетико-дедуктивный, метод анализа и синтеза), а также лингвистические и лингвокогнитивные методы (когнитивно-дискурсивный, методы концептуального, контекстуального и структурно-семантического анализа с привлечением более частных методик компонентного, дефини-ционного и этимологического анализа).
Гипотетико-дедуктивный метод, лежащий в основе данного исследования, позволяет выдвинуть гипотезу о функционировании повествовательного мотива в качестве сюжетообразующего звена и смыслопорождающего начала в гетерогенном, нарративном пространстве гибридного дискурса, развивающегося в различных направлениях. Когнитивно-дискурсивный метод нацелен на исследование художественно-правового дискурса как коммуникативного явления, созданного в процессе интеграции двух видов знания - из юридической сферы и области художественноэстетического творчества - на основе выявления значимости мотива в процессе гибридизации. Концептуальный анализ позволяет выявить новые смыслы и дополнительные коннотации в смысловой структуре художественного текста, впоследствии интегрированные в концептуальное пространство гибридного художественно-правового дискурса. Контекстуальный анализ призван описать взаимодействие языковых средств выражения в текстовом фрагменте, создающем пространство, в котором осуществляется процесс лингводискурсивной гибридизации. Структурно-семантический метод позволяет проследить изменения значений в слове посредством актуализации его этимологического компонента, выявления категориальных и дифференциальных сем, участвующих в формировании значения слова, а также выявить экспрессивно-эмоциональные и оценочные оттенки высказывания на основании его структурносинтаксической организации.
Мотивная специфика повествования, под которой понимается авторская концепция использования повторяющегося элемента в романной прозе, реализуется в трехкомпонентной коммуникативной модели: автор - текст - читатель, на различных уровнях формирования смысла. Обратимся к теоретико-методологическим обоснованиям релевантности изучения повествовательного мотива в тексте заявленной тематики.
Аспекты изучения мотива в тексте гибридного формата
Согласно словарю Н.Д. Тамарченко, «мотив -обобщенная форма семантически подобных событий сюжетных, взятых в рамках определенной повествовательной традиции литературы» [11, с. 130]. Автор указывает на то, что «в центре смысловой структуры мотива - собственно действие, своего рода предикат, организующий потенциально действующих лиц и потенциальные пространственно-временные характеристики возможных событий» [11, с. 130]. Принимая во внимание данное умозаключение, обозначим, что мотив рассматривается в отдельно взятом литературном произведении как фабульно выраженный компонент повествования, характеризующий его событийный ряд. Сквозь призму мотива обнаруживаются доминантные характеристики как событий -тех явлений, которые, как замечает В.И. Тюпа, являются «беспрецедентными преобразованиями исходной ситуации», так и имманентные ключевые признаки объекта действительности [14, с. 82]. Функционирование мотива и развитие моти-вики в целом в фабульно-сюжетном построении романа осуществляется с позиции нескольких аспектов.
Аксиологический аспект
На наш взгляд, процесс формирования повествовательных мотивов обусловлен намерением автора оказать воздействие на адресата. Он (мотив) сам по себе является лудической (игровой)
активностью творца-создателя произведения. Так, в тексте гибридного формата основной мишенью становится моделирование образа правовой действительности на основе скрытых тонкостей формально-организационной структуры произведения. По замечаниям И. В. Силантьева, «мотив есть образная интерпретация сюжетной схемы» [7, с. 22]. Идея об эстетической значимости мотива в пространстве художественного текста, толкующего социально-правовую реальность, неотделима от идеи ситуативности - связи с конкретной исторической эпохой: «… самый образ, лежащий в основе мотива, по своему существу эстетичен и соотносит мотив с парадигмой значений эстетического языка эпохи. Именно эта связь объясняет феномен зарождения мотивов из “самой жизни” - но увиденной и пережитой в эстетическом ракурсе» [7, с. 40]. Повествовательный мотив становится выразителем исторической и культурной памяти сквозь призму авторской интерпретации: «Именно мотив, как носитель устойчивых значений и образов повествовательной традиции и одновременно как повествовательный элемент, участвующий в сложении фабул конкретных произведений, обеспечивает связь «предания» и сферы «личного творчества» [8, с. 6-24].
Функциональный аспект
Согласно наблюдениям Б.Н. Путилова о природе и характере функционирования мотива, отметим, что он (мотив) «выполняет … три постоянные функции: конструктивную, динамическую и семантическую; он входит в составляющие сюжета, он выступает как организованный момент сюжетного движения и несет свои значения, определяющие содержание сюжета» [6, с. 140]. Текст, по замечаниям О.А. Турбиной, следует рассматривать «как совершенный комплексный сентенциональ-ный знак, предназначенный для выражения целостного и значительного по объему смыслового содержания» [12, с. 80-92].
Пересечение и постоянное «переключение» сюжетных линий в тексте художественно -правового формата, обусловленное нелинейностью и фрагментарностью повествования, создает условия для формирования особой ризоматической дискурсивной среды, в которой «возникают нестандартные ассоциативные связи, формируются мультипликативные эффекты, порождающие новые смыслы» [9, с. 805–821]. Уникальным механизмом смыслопорождения в «смешанном» формате дискурса становится условно обозначенный «А-означающий разрыв», когда «коммуникация осуществляется от одного соседа к какому-то еще соседу», и эту коммуникацию бывает трудно предугадать [2, с. 23]. С учетом непредсказуемости «ветвления» смысла в романе, описывающем повседневную жизнь общества с экскурсами в область правовой реальности, мотив в литературном произведении выполняет комбинаторно-конструктивную функцию, объединяя, на первый взгляд, удаленные друг от друга текстовые фрагменты в тематические сцепления.
Прагматический и культурологический аспекты
В основе изучения прагматического и культурологического аспектов функционирования повествовательного мотива лежит идея о его рематической природе, базирующейся на предикативности мотива как основе событийности в любом художественном произведении. Мотив способен привносить в нарратив новую значимую информацию: «Категория мотива предполагает тема-рематическое единство... Причем ведущая роль в этом единстве принадлежит предикативному компоненту (реме) [13, с. 175]. И.В. Силантьев замечает, что при таком подходе за мотивом «потенциально обозначен комплекс возможных действий, соотнесенных с тематическим целым мотива. …Эти действия в своем фабульном развитии формируют событие» [8, с. 6-24].
В широком смысле слова событийность, ярким репрезентантом которой становится повествовательный мотив, обрамляет некоторый повествовательный цикл микро-событий и событий, ведущих к становлению единого макро-события. В процессе конструирования макро-события на глобальном уровне текста гибридного формата к уже эксплицированным смыслам примыкают все новые коннотации, смысловые трансформации, реализованные с помощью единиц художественного текста и обогащающие дискурс-источник -правовую концептуальную область. Процесс активной аккумуляции и последующей синергии знания из взаимодействующих дискурсов осуществляется на протяжении всего повествования. В возникших на стыке дискурсов новых коннотациях зачастую отражается национально-культурная специфика английского менталитета.
Семантический аспект
Являясь значимой единицей сюжетного развертывания произведения, повествовательный мотив обладает системностью и самоорганизующейся природой, вследствие чего становится семантическим ядром, вокруг которого конструируется смысловое поле текста, функционирующего в гибридном дискурсе. Повествовательный мотив в тексте гибридного формата способен создавать тематическую сеть метафор, сравнений, аллегорий и др. средств художественной выразительности: «Образное представление о каком-либо явлении передается не единично, а в группе метафор, тождественных и различных… эта системность имеет закономерную композицию нанизанности и кажущаяся несвязанность отдельных эпизодов или мотивов оказывается стройной системой» [16, с. 108]. Как следствие, комплексное описание объекта действительности приводит к детализации его доминантных характеристик.
Подчеркнем, что повествовательный мотив реализуется в гибридном дискурсе как интенция автора-создателя произведения привлечь внимание к «злобе дня», транслировать культурную историческую память и собственный опыт «в эстетическом ракурсе». На уровне текста мотив обладает предикативностью, проявляющейся в тема-рематическом единстве, и, как следствие, участвует в формировании ключевых категорий гибридного дискурса – событийности и ситуативности. Системная и самоорганизующаяся природа мотива позволяет реципиенту создать обобщенный образ объекта действительности с помощью изобразительных комплексов – тематической сети метафорических, сравнительных и иных конструкций. Мотив «игра» – фабульно выраженный компонент макро-события «Кризис в Канцлерском суде» в романе Ч. Диккенса «Холодный дом». Обратимся к его непосредственной языковой репрезентации с точки зрения заявленных аспектов.
Языковая репрезентация мотива «игра в суде» в романе Ч. Диккенса «Холодный дом» Палитра языковых средств и приемов рече-творчества, используемых автором в романе «Холодный дом», напрямую связана с авторским выбором единиц художественного текста, направленных на обличение правовой реалии. Единичные лексемы, включенные в изобразительные комплексы, или цельные сентенциональные знаки, представляющие собой тематические сцепления, способны трансформировать привычное представление о правовом институте.
Политическая (правовая – в частности) система, о которой восклицает Мистер Гридли на страницах романа и которую обвиняет в «несправедливости» по отношению к нему, представителю буржуазного общества, – «The system! I am told on all hands, it's the system…» – оказывается «большой игрой»: «I thought I often observed besides how right my guardian was in what he had said, and that the uncertainties and delays of the Chancery suit had imparted to his nature something of the careless spirit of a gamester who felt that he was part of a great gaming system»1 [18, с. 296–298]. В настоящем текстовом фрагменте отчетливо прослеживается тема-рематическое членение предложения на тему – «неопределенность и волокита канцлерской тяжбы» и рему – новую информацию, заключающуюся в вовлечении ответственного, чуткого и внимательного к окружающим юноши в систему Канцлерского суда и в описании его душевных трансформаций. Дефиниция слова «gaming» транслирует значения: 1. (usu. as noun modifier gaming) play at games of chance for money; 2. manipulate (a situation), typically in a way that is unfair or unscrupulous2 [17]. С точки зрения аксиологии высказывания эксплицируется заинтересованность буржуазного общества и представителей судебной власти приумножить свое богатство; речь идет как о процветании коррупции и взяточничества на уровне системы, так и о неправомерных, манипулятивных действиях лиц, участвующих в процессе, на примере отдельной судебной тяжбы. Описывая правовую историческую реальность (первая половина XIX в., время создания романа «Холодный дом»), Р. Уолкер замечает следующее: «Полное пренебрежение судебного персонала своими служебными обязанностями влекло постоянное накопление дел, которое стало невыносимым в период канцлерства лорда Илдоуна… Негодность судебного персонала могла соперничать разве только с произволом судебных чиновников, коррупцией и взяточничеством» [15, с. 99].
Особый механизм гибридного дискурса (условно обозначенный как «А-означающий разрыв»), функционирующий в ризоматической среде текста «смешанного» формата, позволяет обратиться к иному фрагменту и уточнить принципы «большой игры». Проследим фрагмент романа: « On such an afternoon some score of members of the High Court of Chancery bar ought to be – as here they are – mistily engaged in one of the ten thousand stages of an endless cause, tripping one another up on slippery precedents , groping knee-deep in technicalities, running their goat-hair and horsehair warded heads against walls of words and making a pretence of equity with serious faces, as players might» 3 [18, с. 10]. Характер межличностных отношений судейских, которые сводятся к «подножкам на скользких прецедентах», отражает сторону правовой реалии, скрытой от чужих глаз. Внешняя неразбериха и «волокита» оказываются неизбежным следствием (в том числе) внутреннего «мироустройства» суда. Актерская игра представителей судейства подразумевает скрытые мотивы и корыстные цели. Социокультурной и исторической значимостью обладает атрибут «скользкий» при описании прецедента Английской правовой системы в первой половине XIX в. Согласно данным словаря ABBYY Lingvo 6, слово имеет значения:
-
1. unpredictable; 2. (of a word or concept) elusive in meaning because changing according to one's point of view [17]. Варьирование судебного решения, основанного на прецеденте, было связано с тем фактом, что английское право, по замечаниям П. Арчера, «не является строго консервативным, и что факторами, имеющими значение при формулировании нормы, являются обычаи и привычки данного времени» [1, с. 7].
Особо сложную «шахматную партию», в том числе при отсутствии противника, разыгрывают и представители адвокатуры: « Mr. Guppy suspects everybody who enters on the occupation of a stool in Kenge and Carboy’s office … every such person wants to depose him… On the strength of these profound views, he in the most ingenious manner takes infinite pains to counterplot when there is no plot, and plays the deepest games of chess without any adversary »4 [18, с. 377]. Идея борьбы отражена в дефиниции слова «adversary»: someone you are competing with, or arguing or fighting against5 [17]. Игра представителей адвокатуры, изображенная с помощью эпитета в превосходной степени, передает изощренность методов борьбы, тайную форму ее ведения и эффект неожиданности.
Дальнейшее ветвление смысла «шахматной игры» разворачивается в следующем текстовом фрагменте: «“Ah, cousin!” said Richard. “Strange, indeed! All this wasteful, wanton chess-playing is very strange. To see that composed court yesterday jogging on so serenely and to think of the wretchedness of the pieces on the board gave me the headache and the heartache both together…”»6 [18, с. 7]. Наряду с семой «жестокость действия»7, в настоящем контексте актуализируется этимологический компонент слова – «безудержность и неограниченность игры»: wanton – 1. unrestrained; 2. to play or revel without restraint8 [19, с. 721]. Новому человеку, попавшему в систему «большой игры», данная правовая реальность кажется странной: страдания пешек на доске коррелируют с невозмути- мостью и безмятежностью суда. Пешка – самая мелкая фигура в шахматной игре; в романе она олицетворяет простого человека, ищущего справедливость и защиту в суде Канцлера. Топтание на месте («jogging on so serenely») становится маркером несобытийной активности суда: jog on – continue in a steady, uneventful way; event – a thing that takes place, especially one of importance9 [17]. На примере данного текстового фрагмента эксплицирована тема страдания, физического и душевного, не только человека, непосредственного участника судопроизводства, но и окружающих взрослых, детей, подростков.
Повествовательный мотив «игра в суде» является продуктивным компонентом фабульносюжетного построения романа, посвященного конкретному периоду работы Канцлерского суда. С помощью языковых приемов - метафорических оборотов, сравнительных конструкций, сквозных эпитетов, символов и др. - освещаются различные стороны «игры». На страницах романа можно наблюдать постепенное развертывание «большой игры», уточнение ее правил и характера игровых действий в виде жестокости игроков и безудержности самой игры, изощренности приемов и способов ведения борьбы, а также эффекта неожиданности как имманентного свойства любого события конфликтогенной природы. Актерское мастерство представителей судебной системы проявляется в умении делать серьезный вид, «будто вершат правосудие». Автор саркастически описывает межличностные отношения деятелей суда и адвокатуры. В ризоматической среде гибридного дискурса транслируется мысль о сложившейся концепции, используемой представителями судебной системы в своих корыстных целях. Данные факты подтверждаются юристами и правоведами в жанре юридической публицистики, что позволяет заключить о ключевой роли изучения повествовательного мотива в рамках категорий ситуативности и событийности в тексте гибридного формата. С позиции культурно-исторического наследия раскрывается специфика английского права, которое не являлось «строго консервативным» в первой половине XIX в.
Заключение
Одним из способов трансфера знания между дискурсами в условиях гибридизации становится специфика фабульно-сюжетного построения романа, в котором ключевая роль принадлежит мотиву - устойчивому (рекуррентному) элементу текста, отражающего авторскую концепцию нарочитого привлечения внимания к особо острым социально-правовым вопросам. Знание о правовой действительности транслируется в художественном тексте в режиме повествовательных «перебивок», создавая ризоматическую среду гибридного дискурса. В данном пространстве возникают мультипликативные эффекты, аккумулирующие знание об особенностях правовой реалии и обогащающие концепт «Канцлерский суд».
Динамически развивающийся повествовательный мотив «игра в суде» становится одной из смысловых доминант и фабульным компонентом романа Ч. Диккенса «Холодный дом», транслирующим в самом широком понимании информацию о несовершенствах работы правового института. Интерпретационный потенциал «игры в су- де» на страницах романа повышается за счет примыкания дополнительных коннотаций и новых смыслов, эксплицированных в тематических сцеплениях посредством спектра языковых средств и приемов художественной выразительности.
С позиции аксиологического аспекта дискурс-источник, т. е. правовая концептуальная область, обогащается знанием о моральных, психологических, физических, в том числе и внешних (помятая шляпка мисс Флайт, которая торчит в суде от рассвета до заката), трансформациях героев, столкнувшихся с судебными разбирательствами. В аспекте функционального подхода в тексте гибридного формата аксиологически нагруженный мотив «игра в суде» дает ключ к пониманию исторической реальности и способствует интеграции знания между полярно удаленными дискурсами и построению ассоциативных связей в процессе моделирования образа Канцлерского суда.
В рамках исследования прагматики текста становится возможным проследить корреляцию микро-событий в пространстве единого макрособытия - Кризиса в суде. Культурологический аспект изучения мотива проливает свет на характер английского права в свете прецедента как подвижной формы существования правовой нормы. Семантика текста несет эмоциональный заряд, добавляя экспрессию авторскому повествованию.
В заключение подчеркнем, что аспектуальный подход к изучению повествовательного мотива систематизирует знание о возможностях текста гибридного формата транслировать знание об исторической реальности сквозь призму интеграции разнородного знания и с учетом уникальных особенностей текста, возникающих в процессе гибридизации.