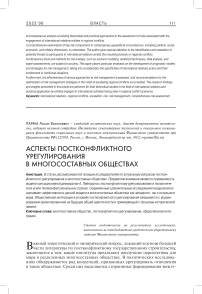Аспекты постконфликтного урегулирования в многоcоставных обществах
Автор: Парма Р.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются позиции исследователей по актуальным вопросам постконфликтного урегулирования в многосоставных обществах. Предметом внимания является применимость модели консоциативной демократии А. Лейпхарта к постконфликтному урегулированию в полиэтнических и/или поликонфессиональных странах. Современные сравнительные исследования неоднозначно оценивают эффективность данной модели в многосоставных обществах как западного, так и остального мира. Общественная интеграция в условиях постконфликтного урегулирования связывается с формированием ориентированной на будущее общей идентичности и примиряющей с прошлым исторической памяти.
Многосоставное общество, постконфликтное урегулирование, общественная интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170201752
IDR: 170201752 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9865
Текст научной статьи Аспекты постконфликтного урегулирования в многоcоставных обществах
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.
Важный теоретический и эмпирический вопрос, лежащий в основе большей части литературы по постконфликтному государственному строительству, заключается в том, какие институты предлагают наилучшие перспективы для мира в разделенных многосоставных обществах. В политических исследованиях обнаруживается ряд концепций, призванных урегулировать отношения в таких обществах. Среди них выделяются сторонники формирования межэт- нического центра посредством выборного представительства, сторонники разделения власти для защиты прав и свобод, сторонники институционального перехода к делиберативной демократии [Кудряшова 2016].
Однако наиболее известной стала модель консоциативной демократии А. Лейпхарта. Многосоставное общество он определил как разделенное на религиозные, языковые, культурные, идеологические, расовые, этнические и региональные сегменты, соответствующие политическим линиям размежевания. Концепция многосоставного общества создана на основе сравнительного исследования исходя из теоретических объяснений политической стабильности в фрагментированных по этническому и конфессиональному составу обществах ряда европейских стран. Ключевым фактором устойчивого развития выступают стратегии лидеров социальных групп, ориентированные на сотрудничество для преодоления культурных противоречий и управления возникающими конфликтами. Структуру модели консоциативной демократии, по Лейпхарту, составляют: 1) большая коалиция, представляющая значимые сегменты общества и позволяющая их лидерам приходить к общему консенсусу; 2) пропорциональность представительства при распределении постов и ресурсов в системе власти; 3) возможность ветировать принятие важных решений, гарантирующая учет интересов меньшинств; 4) автономность групп в решении собственных вопросов, реализуемых в форме территориального или корпоративного федерализма. Устойчивости консенсусной демократии способствуют такие условия, как разделение сегментов, установление баланса сил, наличие внешних угроз и небольшой размер страны [Лейпхарт 1997; Lijphart 2007].
Исходя из концепции многосоставного общества Ф. Рëдер рекомендует для постконфликтного урегулирования ряд мер:
-
– следует поддерживать политические образования, в которых население готово жить вместе и имеет «национальное чувство»;
-
– правительству нужно минимизировать число спорных вопросов, решаемых на уровне центра;
-
– первоочередное внимание должно быть уделено строительству местных институтов;
-
– в процесс переговоров по будущему государственному устройству необходимо вовлекать не только представителей четко очерченных этнических групп, но и других участников;
-
– распределение власти требуется ограничить в пользу прямого управления международного сообщества [Roeder, Rothchild 2005].
Участие гражданского общества является одним из важнейших факторов, определяющих, будут ли успешными инициативы по восстановлению и реконструкции в постконфликтной среде. Гражданское общество определяется как добровольные действия людей, разделяющих общие убеждения и ценности. Одним из способов объединения этих совместных усилий является разработка проектов, направленных на формирование культуры мира, включающих образование, работу, права человека, гендерное равенство, демократизацию, толерантность, солидарность, коммуникацию и безопасность.
Создание культуры мира выступает способом влияния различных заинтересованных в постконфликтном миростроительстве игроков на процесс урегулирования. Общие функции гражданского общества в постконфликтном урегулировании включают защиту граждан и общественных интересов, привлечение виновных к ответственности, социализацию поведения граждан, формирование сообществ, посредничество между гражданами и госу- дарственными институтами, предоставление услуг для функционирования общественных организаций. Хотя гражданское общество не может выполнять все роли, которые играет государство в постконфликтных условиях, лидеры и организации гражданского общества обеспечивают важную перспективу, исходя из потребностей и культурных особенностей конкретного общества [Parver, Wolf 2008].
Следуя в русле консоциационной теории, С. Вольф на основании статистических исследований приходит к заключению, что институты достижения согласия имеют большие перспективы для построения демократических государств после конфликтов в разделенных обществах. Автономия может служить только для стабилизации конфликтов самоопределения, если они являются частью сбалансированного подхода, опирающегося на элементы консоциатив-ных методов и смягченного интегративной политикой с более широким региональным видением.
Современная консоциационная теория расширила возможный набор взаи-моусиливающих институциональных вариантов, способных обеспечить устойчивый мир как результат процессов постконфликтного государственного строительства в разделенных обществах. Также систематическая интеграция территориальной стратегии и стратегии разделения власти в теории и на практике устраняет ряд оправданных опасений критиков каждой стратегии в отдельности. Разделение власти внутри самоуправляющихся образований может предотвратить злоупотребления в отношении групп меньшинств, которые могут стать возможными благодаря расширению прав и возможностей местного большинства населения. Разделение власти в центре привязывает элиты самоуправляющихся образований к центру, делая их частью общего государства и сводя к минимуму их стремления к отделению. В свою очередь, самоуправление компактных групп на местном уровне снижает ставки политической конкуренции в центре и, следовательно, вероятность институционального тупика [Wolff 2011].
Между тем Дж. Селвэй и Х. Темплмен на основе количественного анализа случаев конфликта в 101 стране (106 политических систем) пришли к негативному для сторонников консоционализма заключению, что основные институциональные рекомендации Лейпхарта приводят к более высоким уровням политического насилия и не способствуют устойчивому постконфликтному урегулированию. В теоретико-методологическом аспекте рассматриваемое направление вышло за рамки институционализма, уделяя значительное внимание восстановлению межгруппового доверия, в т.ч. через формирование общественного дискурса и продвижения общечеловеческих ценностей. Институциональный выбор расширяется за счет учета взаимодействия формальных и неформальных институтов, комплементарность которых имеет первостепенное значение для переходных обществ. Предлагаемый пакет институциональных решений должен подходить именно к тому обществу, в котором он будет реализован, соответствуя его социальной структуре, культуре и традициям. Между тем глобализация осложняет управление культурным многообразием, стимулирует рост этнического национализма и активности трансграничных групп. Для поддержания стабильности важны хорошие отношения с соседями и формирование региональных комплексов безопасности [Selway, Templeman 2012].
Ряд исследователей считают, что, несмотря на некоторую несовместимость в подходах к постконфликтному урегулированию, реализм, либерализм, конструктивизм, космополитизм, локализм и критическая теория разделяют общие идеи. В частности, подходы совпадают в возможности достижения прагматичного разрешения, сосредоточившись на участниках конфликтов, разработке решений на местном уровне, поддержании долгосрочных обязательства. Устойчивость общественного развития ставится под сомнение без смягчения прерогатив власти идеями равенства и включения в процесс постконфликтного урегулирования местных субъектов [Carey 2020].
При этом лишь некоторые западные исследователи считают, что общего сценария для всех постконфликтных ситуаций в многосоставных обществах не существует, поскольку каждый конфликт имеет множество уникальных характеристик. Вмешательство, которое может быть весьма эффективным в одном сообществе, может быть совершенно неэффективным в другом. Вооруженный конфликт подрывает доверие и разрушает существовавшие ранее коллективные чувства, а опыт войны заставляет людей становиться неуверенными и тревожными, что мешает участвовать в общественной деятельности. Также экономический спад, стресс и насилие могут привести к разделению групп по этническому и расовому признаку в качестве механизма выживания.
Многие исследователи, рассматривая проблемы постконфликтного примирения в многосоставных обществах, находят тесную зависимость между образованием, идентичностью и конфликтом [Bellino, James 2017]. В частности, один из выходов видится в историческом образовании, формирующем социальную идентичность. Так, самоидентификация с определенной группой усиливает позитивное восприятие внутренней группы наряду с негативным стереотипированием любых внешних групп. Историческое образование может укрепить идентичность внутри группы. Когда они связаны с идеями государственности, основанными на терпимости и разделяемой человечности, они могут способствовать примирению. Историческое образование также может способствовать разнообразию и равенству всех групп в обществе, формируя позитивные межгрупповые отношения. Наконец, историческое образование может быть использовано для демистификации существующих структур власти и их оправданий, которые часто связаны с воспоминаниями о символических угрозах между группами [Korostelina 2013].
В постконфликтном контексте исследователи признают, что даже после подписания мирных соглашений или прекращения прямого насилия конфликты часто сохраняются в памяти общества и идентичности групп. Образование пересекается с воспитанием в духе мира, сосредоточив внимание на нарративах прошлого. Исследователи пытаются преодолеть разрыв между работой по историческому образованию и памятью в постконфликтных условиях в многосоставных обществах. Рассмотрение образования в странах, переживших конфликт, выявило выраженное использование подхода коллективной памяти к преподаванию истории, который продвигал традиционные этнона-ционалистические нарративы [Paulson 2015]. Образование следует рассматривать как место памяти для преподавания «трудных историй». Подход коллективной памяти подчеркивает единый исторический нарратив, часто сформированный националистическими и политическими соображениями. Школы предоставляют возможности для оспаривания и формирования воспоминаний посредством взаимодействия между учащимися и учителями, которые могут «стремиться мобилизовать историческое образование для примирения и построения мира» в сложных обществах [Paulson et al. 2020].
Историческое образование способствует как ретроспективному, так и перспективному примирению, связывая их посредством формирования идентич- ности социальной группы. Историческое образование может способствовать примирению, помогая признать проблемы прошлого, а также реформировать межгрупповые представления и идеи о возможностях сотрудничества с бывшими врагами в будущем. Отношение к своей внутригрупповой идентичности, частично определяемое воображаемой историей человека, способствует при-мирению1.
В целом современные концепции, связанные с описанием и объяснением интеграционных процессов в многосоставных обществах, демонстрируют ограниченность большинства моделей, построенных вокруг идей глобальной универсальности и доминирования либеральных ценностей. Подобные теоретические концепты обладают западоцентричным характером, а также являются продолжением идеологической рамки глобального постколониализма, ставшего возможным в условиях «мира, построенного на правилах», и стратегии управляемого хаоса.
Список литературы Аспекты постконфликтного урегулирования в многоcоставных обществах
- Кудряшова И.В. 2016. Как обустроить разделенные общества. – Политическая наука. № 1. С. 15-33.
- Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс. 287 с.
- Bellino M.J., James H.W. 2017. (Re) Constructing Memory: Education, Identity, and Conflict. Rotterdam: Sense Publishers. 352 p.
- Carey H. 2020. Peacebuilding Paradigms: The Impact of Theoretical Diversity on Implementing Sustainable Peace. Cambridge: Cambridge University Press. 250 p.
- Korostelina K.V. 2013. History Education in the Formation of Social Identity: Toward a Culture of Peace. N.Y.: Palgrave Macmillan. 235 p.
- Lijphart A. 2007. Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice. N.Y.: Routledge. 305 р.
- Parver C., Wolf R. 2008. Civil Society's Involvement in Post-Conflict Peacebuilding. – International Journal of Legal Information. Vol. 36. Is. 1. P. 51-79.
- Paulson J. 2015. ’Whether and How?’ History Education about Recent and Ongoing Conflict: a review of research. – Journal on Education in Emergencies. Vol. 1. Is. 1. P. 115-141.
- Paulson J., Abiti N. A., Bermeo Osorio J., Charria Hernandez C.A., Keo D., Manning P., Milligan L.O., Moles K., Pennell C., Salih S., Shanks K. 2020. Education as a Site of Memory: Developing a Research Agenda. – International Studies in Sociology of Education. Vol. 29. Is. 4. P. 429-451.
- Roeder Ph.G., Rothchild D.S. 2005. Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars. Ithaca, N.Y.: Cornel University Press. 383 p.
- Selway J., Templeman K. 2012. The Myth of Consociationalism? Conflict Reduction in Divided Societies. – Comparative Political Studies. Vol. 45. No. 12. P. 1542-1571.
- Wolff S. 2011. Post-conflict State Building: the Debate on Institutional Choice. – Third World Quarterly. Vol. 32. No. 10. P. 1777-1802.