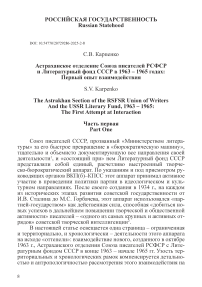Астраханское отделение Союза писателей РСФСР и Литературный фонд СССР в 1963 – 1965 годах: Первый опыт взаимодействия
Автор: Карпенко С.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Астраханское отделение Союза писателей РСФСР и Астраханское отделение Литературного фонда СССР были организованы в октябре – ноябре 1963 г. В статье исследуется их совместная работа по оказанию денежной помощи профессиональным писателям Астраханской области за счет средств, получаемых из бюджета Литературного фонда СССР. Основное внимание уделяется их взаимодействию с центральным бюрократическим аппаратом Литфонда СССР в конце 1963 – начале 1965 гг. В качестве теоретической основы в статье применена концепция «литературного быта» Б.М. Эйхенбаума. Сохранившиеся архивные документы дают возможность детально исследовать это взаимодействие, а также выяснить, как на него влияли личные качества поэта Н.Г. Поливина, возглавлявшего отделение Союза писателей, и прозаика А.Т. Гаркуши, возглавлявшего отделение Литфонда. Уже первый год этого взаимодействия показал, что Поливин и Гаркуша не имели никакой склонности к бюрократической работе и никакого опыта работы с бухгалтерскими документами. Кроме того, они недооценивали важность налаживания служебных отношений с руководящими работниками Литфонда СССР, а это было чревато возникновением сложностей и препятствий как в денежном содействии творческим командировкам, так и в оказании денежной помощи астраханским писателям.
Союз писателей СССР, областная писательская организация, коллективное руководство, писатель, литературная деятельность, «литературный быт», материальная помощь
Короткий адрес: https://sciup.org/149148349
IDR: 149148349 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-8
Текст научной статьи Астраханское отделение Союза писателей РСФСР и Литературный фонд СССР в 1963 – 1965 годах: Первый опыт взаимодействия
The Astrakhan Section of the RSFSR Union of Writers And the USSR Literary Fund, 1963 – 1965:
The First Attempt at Interaction
Часть первая Part One
Союз писателей СССР, прозванный «Министерством литературы» за его быстрое превращение в «бюрократическую машину», тщательно и объемисто документирующую все направления своей деятельности1, и «состоящий при» нем Литературный фонд СССР представляли собой единый, расчетливо выстроенный творческо-бюрократический аппарат. По указаниям и под присмотром руководящих органов ВКП(б)–КПСС этот аппарат принимал активное участие в проведении политики партии в идеологическом и культурном направлениях. После своего создания в 1934 г., на каждом из исторических этапах развития советской государственности от И.В. Сталина до М.С. Горбачева, этот аппарат использовался «партией-государством» как действенная сила, способная «добиться новых успехов в дальнейшем повышении творческой и общественной активности» писателей – «одного из самых крупных и активных отрядов» советской творческой интеллигенции2.
В настоящей статье освещается одна страница – ограниченная и территориально, и хронологически – деятельности этого аппарата на исходе «оттепели»: взаимодействие нового, созданного в октябре 1963 г., Астраханского отделения Союза писателей РСФСР с Литературным фондом СССР в конце 1963 – начале 1965 гг. Узость территориальных и хронологических рамок компенсируется детальностью и антропологичностью рассмотрения этого взаимодействия на основе сохранившихся документов Астраханского отделения Союза писателей РСФСР.
В качестве теоретической основы исследования в статье применена концепция «литературного быта», разработанная в 1920-е гг. ленинградским историком и теоретиком литературы Борисом Михайловичем Эйхенбаумом (1886 – 1959), ученым с мировым именем3.
Гуманитарии, так или иначе причастные к истории культуры и литературоведению, на словах и в печати порой сетуют на то, что эта концепция Б.М. Эйхенбаума до сих пор «остается наиболее невостре-бованной»4. Можно высказаться и прямее: остается наименее понятой, оцененной и воспринятой5.
Не беремся судить о причинах, по которым советские и нынешние литературоведы «не замечают» эту концепцию Эйхенбаума. Историки же, со своей стороны, часто опасаются браться за «окололитературные» темы, поскольку их разработка сопряжена с немалыми теоретическими и источниковедческими сложностями.
Особую сложность в изучении «литературного быта» советского периода представляет непременное вникание в устройство и деятельность творчески-бюрократического аппарата Союза писателей СССР, в хитросплетения его взаимодействия как с руководящими комитетами ВКП(б)–КПСС, от ЦК до обкомов, так и с учреждениями ведомства культуры и ведомства издательств, полиграфии и книжной торговли. Да и как тут вникнуть, когда нынешние историки в массе своей стали забывать об истории государственных учреждений и общественных организаций России, хорошо разработанной несколькими поколениями их предшественников, и теперь дежурно обходятся в своих писаниях обезличенными и обессмысленными понятиями «структуры», «власти», «институции» и прочими подобными.
Поэтому имеет смысл прежде всего рассмотреть основные положения концепции «литературного быта» и возможность их применения в качестве теоретической основы для изучения деятельности Союза писателей СССР и Литературного фонда СССР.
* * *
В 1927 г., в майском № 9 двухнедельного «журнала марксистской критики» «На литературном посту», выпускавшегося Российской ассоциацией пролетарских писателей (РАПП), увидела свет статья40-летнего профессора Ленинградского государственного университета Б.М. Эйхенбаума «Литература и литературный быт»6. Год-два спустя, готовя к изданию сборник своих произведений, он сократил ее название до двух слов – «Литературный быт»7.
В этой «программной» статье Эйхенбаум первым и впервые – деликатно по форме, но резко по существу – поставил вопрос о том, что «исследователи литературы и критики», «в последние годы», вследствие «пережитого нами литературного подъема», сосредоточили внимание «на литературной “технологии”» и «литературной эволюции – внутренней диалектике стилей и жанров»8, а потому оставили на обочине своих ученых изысканий и критических разборов «историю литературы в собственном смысле этого слова». «Знаменательно и характерно, – писал он, – что история [Здесь и далее курсив Б.М. Эйхенбаума. – С.К. ] литературы в собственном смысле этого слова была оставлена в стороне, более того – самая ее научная ценность была взята под подозрение»9. И далее: «<…> Исследователи последних лет отказались от традиционного историко-литературного материала (в том числе и биографического) и сосредоточили свое внимание на общих проблемах литературной эволюции. Тот или другой историко-литературный факт служил, главным образом, иллюстрацией к общим теоретическим положениям. Историко-литературные темы, как таковые, отошли на второй план»10.
Одной из причин этого «отхода на второй план» он посчитал «бедность историко-литературного сознания» исследователей литературы и критиков11. (Кажется, Эйхенбаум не подозревал о «бедности исторического сознания» и многих историков).
И именно тогда, когда «исследователи литературы» отодвинули «историю литературы в собственном смысле этого слова» на задворки своих изысканий, изучение литературной эволюции, по мнению, Эйхенбаума, оказалось в ситуации перелома: «Для изучения общих законов литературной эволюции, особенно в их приложении к проблемам технологии, вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений был второстепенным или даже посторонним. Теперь именно этот вопрос является центральным»12.
В ситуации перелома оказалось и изучение всей русской культуры, ибо она сама вместе со всей Советской страной – вместе с экономикой, социальной структурой и политической системой – переживала большевистский «великий перелом».
«Вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений» стал центральным в силу того, что «литературная современность», по мнению Эйхенбаума, «выдвинула ряд фактов, требующих осмысления, включения в систему»13, – в его понимании и по его определению, в «историческую систему»14. И далее, по ходу изложения своих мыслей, он уточнил это определение: в «историко-литературную систе-му»15.
Уточнил он и определение «факта», требующего осмысления и включения в «историко-литературную систему»: «факт литературного быта», «иначе говоря <…> историко-литературный факт»16.
Свое понимание «историко-литературного факта» Эйхенбаум изложил так: «Историко-литературный факт представляет собой сложное образование, в котором основную роль играет сама литературность – элемент настолько специфический, что его изучение может быть плодотворным только в плане собственно-эволюцион-ном»17. Приведенный им в пример «переход Пушкина к журнальной прозе» позволяет уяснить, что «особенности литературного быта» конкретной исторической эпохи, «новые литературно-бытовые условия» (в частности, изменение характера «литературного труда» в начале 1830-х гг.) Эйхенбаум считал не причинами «эволюции творчества» поэта, а факторами, создающими возможность для «эволюции творчества»18.
При этом, что особенно важно, источником пополнения «ряда фактов» литературного быта минувших времен, иначе говоря «историко-литературных фактов», Эйхенбаум считал «колоссальный материал прошлого, лежащий в документах и разного рода мемуарах»19. То есть тем же самым источником, откуда черпает «факты», «выделяет» их и «собирает в систему» историческая наука, которая, по его определению, «есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем. Так одни проблемы сменяются другими, одни факты заслоняются другими. История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого»20.
В нескольких фрагментах статьи Эйхенбаум охарактеризовал новые для 1920-х гг. «историко-литературные факты», совокупность которых составляла то, что он назвал «литературно-бытовым материалом»21. И при этом еще раз упрекнул исследователей литературы: «Литературно-бытовой материал, столь ощутимый в наши дни, лежит неиспользованным, хотя, казалось бы, именно он должен был лечь в основу современных литературно-социологических работ. Дело в том, что до сих пор в этих работах не поставлена проблема самого историко-литературного факта, а тем самым не сделана ни перегруппировка старого материала, ни ввод нового»22.
«Столь ощутимыми в наши дни» Эйхенбаум посчитал ряд «историко-литературных фактов», существо которых он определил как «социальное бытование» литературы23 (иными его словами, как «литературно-бытовой ряд» фактов). Опять же, словами самого Эйхенбаума можно назвать этот ряд фактов «иллюстрациями к понятию литературного быта и к вопросу о соотношении его с фактами [литературной] эволюции»24.
Первый: «литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней чисто литературной полеми-ки»25.
Второй: «нет отчетливых журнальных объединений»26.
Третий: «нет резко выраженных литературных школ»27.
Четвертый: «нет <…> руководящей критики»28.
Пятый: «нет устойчивого читателя»29.
Шестой: «каждый писатель пишет как будто за себя»30, и для понимания этого «историко-литературного факта» особую значимость имеет суждение Эйхенбаума, что «формы и возможности литературного труда как профессии меняются в связи с социальными условиями эпохи»31.
Седьмой: «литературные группировки, если они и есть, образуются по каким-то “внелитературным” признакам, – по признакам, которые можно назвать литературно-бытовыми»32.
Восьмой: «журнал и самый редакционный быт имеет значение литературного факта»33. А сам этот «литературный факт» своим возникновением восходит к середине XIX в., когда, по оценке Эйхенбаума, литературные журналы, вернее – их редакции, превратились в «определенные формы профессиональной организации писателей, влияющие на самую эволюцию литературы. Они стоят в центре литературной жизни, их редакторами-издателями становятся сами пи-сатели»34.
Девятый: «вопросы технологии явно уступили место другим, в центре которых стоит проблема самой литературной профессии, самого “дела литературы” . Вопрос о том, “как писать”, сменился или, по крайней мере, осложнился другим – “как быть писателем” . Иначе говоря, проблема литературы как таковой заслонилась проблемой писателя»35.
Развивая свои суждения, Эйхенбаум дал обобщенную характеристику изменений в «социальном бытовании» литературы в Советском государстве, под властью большевиков:
«Можно сказать решительно, что кризис сейчас переживает не литература сама по себе, а ее социальное бытование. Изменилось профессиональное положение писателя, изменилось соотношение писателя и читателя, изменились привычные условия и формы литературной работы – произошел решительный сдвиг в области самого литературного быта, обнаживший целый ряд фактов зависимости литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся усло-вий»36. Подчеркнем «зависимости» и «вне ее».
И далее Эйхенбаум, прибегнув к крайне осторожной фразеологии, подвел читателей статьи к осознанию первопричины кризиса «социального бытования» литературы, сводящейся к «вне литерату- ры складывающимся условиям». Эта первопричина – установление в России однопартийной диктатуры большевиков, ее социально-экономическая и культурная политика: «Произведенная революцией социальная перегруппировка и переход на новый экономический строй лишили писателя целого ряда опорных для его профессии (по крайней мере в прошлом) моментов (устойчивый и высокого уровня читательский слой, разнообразные журнальные и издательские организации и пр.), и вместе с тем заставили его стать профессионалом в большей степени, чем это было необходимо прежде»37.
Писателю «стать профессионалом в большей степени», на взгляд Эйхенбаума, значило следующее: «Положение писателя приблизилось к положению ремесленника, работающего на заказ или служащего по найму, а между тем самое понятие литературного “заказа” оставалось неопределенным или противоречило представлениям писателя о своих литературных обязанностях и правах. Явился особый тип писателя –профессионально действующего дилетанта, который, не задумываясь над существом вопроса и над самой своей писательской судьбой, отвечает на заказ “халтурой”»38.
Вообще-то Эйхенбаум, «более или менее вынужденно»,по мнению литературоведа С.И. Кормилова, приняв идеологию большевизма, оставался в конце 1920-х гг. открытым «противником ее нарочитой демонстрации писателем», а для этого требовалось «настоящее гражданское мужество»39. Но работая над статьей «Литература и литературный быт», Эйхенбаум посчитал необходимым прибегнуть к, повторимся, крайне осторожной фразеологии. Похоже, по каким-то соображениям ему очень важно было опубликовать эту статью именно в рапповском журнале «На литературном посту».
В осторожных, обобщенных формулировках «историко-литературных фактов», выстроившихся в новый «литературно-бытовой ряд» (или «социальное бытование») в 1920-е гг., Эйхенбаум указал на сильное деформирующее воздействие, которое стали производить на «социальное бытование» литературы, на само «дело литературы» политика партии большевиков, ее идеология, ее воинствующая пропаганда и агитация.
Не во многих частностях, но в целом известно, что именно под активным воздействием политики ВКП(б) в «литературной борьбе» и «литературной полемике» вопросы классовой борьбы, идеологии и политики взяли верх над вопросами художественными. Объединения писателей – та же РАПП – создавались по признакам классового и идейного родства, то есть по признакам, действительно, как выразился Эйхенбаум, «внелитературным»40.
А государственные издательства и литературные журналы быстро превращались в звенья культурного и идеологического аппара- та партии большевиков, в орудия пропаганды и воспитания «нового человека» коммунистического будущего.
До значимости журналов по части влияния на литературную эволюцию подтягивались редакции центральных, республиканских и губернских (с 1929 г. – областных) партийно-советских газет. Происходило это благодаря как публикации малоформатных произведений, переполненных «пафосом социалистического строительства», так и созданием при редакциях литературных объединений, в которых начинающие писатели обучались основам литературного мастерства. Молодые литераторы, выходившие из среды рабочих и сельских корреспондентов партийно-советских газет, считали своим долгом стать «солдатами партии» и «пером служить делу социализма».
Литературные произведения стали оцениваться культурно-идеологическим аппаратом ВКП(б) и, что особенно важно, цензурой в первую очередь с точки зрения идейности. Писатели и литература в целом все больше попадали под идеологический контроль партии большевиков, в зависимость от ее пропагандистско-агитационного аппарата согласно ленинской концепции «партийной организации и партийной литературы».
Когда в 1927 г. Эйхенбаум писал статью «Литература и литературный быт», похоже, он считал приближение положения писателя к положению «ремесленника, работающего на заказ», более значимым «фактом литературного быта» 1920-х гг., чем образование «литературных группировок» по «каким-то “внелитературным” признакам». До принятия Политбюро ЦК ВКП(б) постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» оставалось пять лет. И когда оно было опубликовано, и началась подготовка к созданию Союза советских писателей, этот «факт литературного быта» стал ключевым, решающим в «литературно-бытовом ряду фактов».
Эйхенбаум формулировал «политические» и «идеологические» характеристики фактов «литературно-бытового ряда» крайне аккуратно, осторожно, в самом общем виде, даже завуалированно. И в итоге ему удалось «протащить», как выражались в подобных случаях партийные идеологи и критики, столь небольшевистские оценки новых, советских, «фактов литературного быта» на страницы «журнала марксистской критики».
По прошествии двух лет, в 1929 г., ленинградское «рабочее кооперативное» издательство «Прибой» выпустило 300-страничную книгу молодых литературоведов Марка Исидоровича Аронсона (1901 – 1937) и Соломона Абрамовича Рейсера (1905 – 1989) «Литературные кружки и салоны»41. Оба соавтора занимались в «семи- нарии по изучению литературного быта», которым в Государственном институте истории искусств руководил Эйхенбаум. Оба они с энтузиазмом поддержали концепцию «литературного быта» своего учителя, и их совместная книга о литературных кружках и салонах в России XIX в. стала первым опытом ее применения к «литературно-бытовому материалу» конкретной исторической эпохи42.
Эйхенбаум написал к книге своих учеников короткое, но емкое предисловие43. На четырех с небольшим страницах он представил базовые составляющие своей концепции «литературного быта», описав некоторые из них – те, которые он посчитал наиболее важными и принципиальными, – более развернуто и взаимосвязано, чем в журнальной статье.
И в этой работе на первое место он поставил «проблему писателя» – писателя и его книгу, писателя и его литературную деятельность, писателя и его литературно-бытовую жизнь:
«<…> У литературы, как и у других искусств, есть жизнь более интимная, но не уходящая в область быта вообще, а только скрещивающаяся с ним. Список всех книг, появившихся за какой-нибудь период времени, еще не дает полного представления о литературной жизни. Не говоря о постоянно существующей и иногда очень характерной рукописной литературе, в этот список не войдет самая история возникновения этих книг, а между тем она иногда очень важна – если не для современников, то для историков. Каждая книга имеет не только свою судьбу, но и свое прошлое»44.
То есть «важное для историков» «прошлое книги», когда она еще существовала в виде рукописи, и писатель работал над ней, пока она не вышла в свет, не преобразилась в собственно книгу и не начала жить своей собственной судьбой, неизбежно и непременно «скрещивается» с «литературным бытом». И скрещивается, добавим от себя, неоднократно, поскольку время идет, какие-то факты «литературного быта» меняются, а писатель все продолжает работать над рукописью. В том числе и вносить в нее изменения в соответствии с замечаниями журнальных и издательских редакторов и рецензентов. А также вносить в нее изменения с целью обойти цензурные препоны, избежать цензурного запрещения к печати. Иными словами, «прошлое книги» – это всегда «скрещивание» с «литературным бытом» и судьбой писателя. В отличие от «собственной судьбы» книги, уже вышедшей из печати в свет.
Далее Эйхенбаум пишет: «Писатель работает не в одиночку, а бок о бок со своими единомышленниками, друзьями, товарищами по ремеслу и т.д. Образуются “кружки”, “группы”, устраиваются собрания, заседания или просто “вечеринки”. Эти формы общения меняются, то приближаясь к наиболее “домашним”, то развертываясь в сторону большей общественности или публичности – как меняется самый тип литератора, от поэта-дилетанта до журналиста-профессионала, как меняется и сама литература, от альбомной лирики до газетного фельетона»45.
Из этих суждений Эйхенбаума следует, что одной из базовых составляющих «литературного быта» являются личные взаимоотношения между писателями как вне, так и внутри писательского сообщества, конкретнее – внутри стихийно сложившейся или целенаправленно организованной писательской «группы» (организации), включая сюда редакцию литературного журнала и редакцию издательства.
Второй базовой составляющей – не менее важной – является личное участие писателя во всех внутригрупповых «формах общения», принятых или установленных в «группе» (организации), к которой он примкнул по собственному тяготению или в которую был принят согласно процедуре, установленной в этой организации.
Третья базовая составляющая – участие писателя во всей внешней, то есть «общественной», «публичной», деятельности писательской «группы» (организации), к которой он примкнул или в которую был принят согласно ее уставу.
Продолжая свои рассуждения о литературных «кружках», то есть о разнообразных литературных «группах», применительно к началу XX в., Эйхенбаум отмечает в их деятельности «возрождение старых литературно-бытовых традиций»46. И эта живучесть «литературно-бытовых традиций», их способность «воскрешать» при изменении «литературного быта», естественно, не могла не оказывать влияния как на взаимоотношения писателей внутри писательской «группы» (организации), так и на литературную деятельность членов этой «группы» (организации).
Ближе к концу предисловия Эйхенбаум отметил: «Революция принесла с собой не только новые жанры оды, но и широкие организации профсоюзного типа <…>»47.
Он и тут выразился крайне осторожно. «Профсоюзное» направление, в смысле материальной взаимопомощи в те голодные и полуголодные времена и содействия в бытовом устройстве, присутствовала в той или иной мере в деятельности всех писательских групп. И в самой массовой писательской организации тех лет – Российской ассоциации пролетарских писателей, – по мере скромных возможностей осуществлялась «профсоюзная» забота о ее членах, а руководители республиканских и губернских (областных) Ассоциаций пролетарских писателей получали от местных партийных комитетов жилищно-пайковые привилегии.
Но, как хорошо известно, на роль решающего организационного фактора в 1920-е гг. быстро выдвигались классовые и идейные соображения. Во главу угла литературной политики партией большевиков были поставлены задачи идеологические: активное участие начинающих писателей, происходивших из среды пролетариев города и деревни, верящих в светлое коммунистическое завтра, в агитационно-пропагандистском обеспечении «наступления социализма по всему фронту». В ходе создания или сразу после местные Ассоциации пролетарских писателей сами передавали себя в подчинение республиканским и губернским (областным) комитетам ВКП(б) – и это естественно: руководители и актив республиканских и губернских (областных) Ассоциаций пролетарских писателей формировались в основном из литераторов, работавших в редакциях партийно-советских газет. А партийные комитеты, со своей стороны, вводили в состав руководящих органов местных Ассоциаций пролетарских писателей своих представителей, ведавших печатью и пропагандой. Именно так, к примеру, обстояло дело в Республике немцев Поволжья48.
Когда же Эйхенбаум перешел к рассуждениям о том, как именно «менялся самый тип литератора» в России XIX в., он ввел понятие «литературно-бытовая система». Под ней, что очевидно, он понимал совокупность либо всех, либо базовых составляющих «литературного быта». Пушкину, который боролся за участие писателей в литературных и общественно-политических журналах, убеждал «собратьев по перу» отдавать свои произведения в периодически выходящие журналы, а не в одноразовые альманахи, Эйхенбаум противопоставил Языкова – упорного и принципиального сторонника характерной для XVIII в. «домашности» литературы. И заключил по этому поводу: «Здесь столкнулись разные литературно-бытовые системы. Пушкин идет к профессионализму, к журналистике <…> Языков защищает архаические для конца 20-х годов формы интимной “домашности”»49.
Наступление «эпохи журналистики» в русской литературеXIX в., как явствует из рассуждений Эйхенбаума, являлось, по сути, сменой«литературно-бытовых систем»50. При этом он сразу же отметил и перемены, происходившие со временем внутри «эпохи журналистики»: начав с публикации своих произведений в ежемесячных «толстых» журналах, писатели, превратившиеся в «журна-листов-профессионалов»,стали затем превращаться в «газетчиков», овладевая газетными жанрами, сочиняя в том числе и «газетные фельетоны».
Действительно, ближе к концу XIX в. многие писатели превращались из «журналистов» в «газетчиков» в том смысле, что предпо- читали именно в ежедневных газетах впервые публиковать свои произведения – стихи, рассказы, даже повести и романы. При Советской власти, под давлением агитационно-пропагандистского аппарата партии большевиков, многие литераторы по разным мотивам и соображениям превращались в «газетчиков» в смысле публицистов: в своих очерках и фельетонах, преимуществом которых считалась «оперативность»51, они стремились внедрить в сознание «трудящихся масс» идеологические постулаты большевизма, «мобилизовать» их на активное участие в социально-экономических и культурных кампаниях ВКП(б).
Согласно концепции «литературного быта» Эйхенбаума, «журналистика как литературный факт» в «новых литературно-бытовых условиях»52 приобрела в СССР новые формы, новое содержание и «новое значение». Возможности для публикаций литературных произведений в ежедневных газетах изменялись, причем изменялись не сами по себе – их целенаправленно изменяла «сверху» партия большевиков. Но и «снизу» шло широкое и активное встречное движение, поскольку, повторимся, руководящий состав и актив республиканских и губернских (областных) Ассоциаций пролетарских писателей формировался в основном из литераторов, работавших в редакциях партийно-советских газет, а в рядовые члены ассоциаций принимались, прежде всего, рабочие и сельские корреспонденты, ярые большевики по своим убеждениям. Самые литературно одаренные из них со временем «выходили» из газетной пропаганды в литературу, их принимали кандидатами и членами в Союз советских писателей СССР, созданный в августе 1934 г. на Первом всесоюзном съезде советских писателей, и одновременно – в члены Литературного фонда СССР, созданного в июле 1934 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР. Именно так происходило в той же Республике немцев Поволжья53.
Наконец, при исследовании «литературного быта» конкретной исторической эпохи должно всегда помнить «вечно живое» суждение Эйхенбаума: «Современное положение нашей литературы ставит новые вопросы и выдвигает новые факты»54. «Современное положение» приходит и, по меркам истории, очень скоро сменяется другим «современным положением», «новые вопросы» и «новые факты» заслоняют, как выражался Эйхенбаум, те вопросы и факты, которые были новыми в минувшем «современном положении». Трудно сказать, сколь прозорливо тогда, в 1927–1929 гг., Эйхенбаум предвидел, что в течение XX столетия перемена «современного положения нашей литературы», перемена ее «социального бытования» произойдет неоднократно.
Одной из таких перемен и обязана своим возникновением в 1963 г., на исходе «оттепели», Астраханская областная писательская организация.
* * *
Литературный фонд СССР, образованный «при Союзе советских писателей СССР» постановлением Совнаркома СССР от 28 июля 1934 г. (то есть почти на месяц раньше самого Союза советских писателей), имел своей главной задачей «содействие членам Союза советских писателей СССР путем улучшения их культурно-бытового обслуживания и материального положения». Тем самым ЦК партии большевиков отвел ему важную (с точки зрения наделения профессиональных советских писателей материально-бытовыми привилегиями), но все же вспомогательную роль писательского про-фсоюза55.
Устав Литературного фонда СССР, разработанный Правлением Союза советских писателей СССР, был утвержден постановлением Совнаркома СССР 20 февраля 1935 г.56 (этот Устав действовал до 1992 г.). Согласно статье 8 Устава Литературного фонда СССР, его членами «являлись» все писатели, принятые в Союз советских писателей СССР57.
По Уставу«высшим руководящим органом» Литературного фонда СССР являлось Правление Союза советских писателей СССР, которое назначало председателя, заместителя председателя и членов Правления Литературного фонда СССР58. А в Уставе Союза писателей СССР, принятом Третьим съездом писателей СССР в мае 1959 г., в статье 20, было конкретизировано: Литературный фонд СССР, «самостоятельный в хозяйственном отношении» и «действующий на основании своего Устава», «существует при» Правлении Союза писателей СССР и несет «общую ответственность перед Правлением и Секретариатом правления Союза», а Правление Литфонда СССР назначается Правлением Союза писателей СССР59. Центральная ревизионная комиссия Союза писателей СССР проверяла деятельность Литературного фонда СССР60.
Согласно Уставу Литературного фонда СССР, его областные отделения организовывались решением Правления Союза советских писателей той союзной республики, в которую входила область, а в качестве руководящего органа областного отделения назначалось Правление отделения. Но в случае «незначительного количества членов» областного отделения вместо Правления мог быть назначен уполномоченный Литфонда СССР по данной области (уполномоченный назначался Правлением республиканского Союза совет- ских писателей и утверждался Правлением Литературного фонда СССР)61.
В декабре 1958 г. Первым учредительным съездом писателей Российской Федерации завершился при поддержке Н.С. Хрущева длительный и непростой путь создания творческого союза российских писателей62. Союз писателей РСФСР был создан как составная часть Союза писателей СССР. А более чем за год до этого, в сентябре 1957 г., в соответствии с Уставом Литературного фонда СССР63, было создано Всероссийское отделение Литературного фонда СССР, которое «непосредственно подчинялось» Правлению Литературного фонда СССР. С самого момента своего создания Всероссийское отделение стало самым крупным из отделений Литературного фонда СССР: оно объединило 53 % всего состава его членов64.
И Правление быстро создало в Москве отдельный чиновни-чье-бухгалтерский аппарат Всероссийского отделения. По оценке Центральной ревизионной комиссии Союза писателей СССР, «раздельное функционирование двух организаций Литфонда нанесло вред общему делу». Согласившись с такой оценкой, Правление Союза писателей СССР «приняло решительные меры для объединения в аппарате Литфонда СССР всей оперативной и финансовой работы по бытовому и культурному обслуживанию писателей». В итоге «излишний штат» Всероссийского отделения был ликвидирован, а оставшаяся часть его аппарата была фактически присоединена к центральному аппарату Литературного фонда СССР65. Тем не менее, российские писатели считали «свое» отделение Литературного фонда СССР существующим самостоятельно, хотя и называли его по-разному: «Российское отделение Литфонда», «Литфонд нашего Союза», «Российский Литфонд», «Литфонд РСФСР»66.