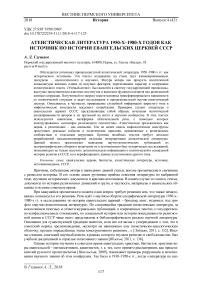Атеистическая литература 1950-х-1980-х годов как источник по истории евангельских церквей СССР
Автор: Глушаев А.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советский человек
Статья в выпуске: 4 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
Обсуждается потенциал пропагандистской атеистической литературы 1950-1980-х гг. как исторического источника. Эти тексты создавались на стыке двух взаимопроникающих дискурсов - идеологического и научного. Фигура автора как продукта политической конъюнктуры являлась одним из ведущих факторов, определявшим характер и содержание атеистического текста. «Учёный-атеист» был включён в систему государственной пропаганды, выступал представителем властных институтов и выполнял функции контроля над религиозной жизнью сограждан. Полученный по запросу власти материал трансформировался в зависимости от политической ситуации и задач исследования в пропагандистский научно-атеистический дискурс. Описывается, в частности, превращение служебной информации закрытого типа в мифологические конструкты массового потребления. Примером служит литература о евангельских церквях СССР, представляющая собой образец сочетания политической ангажированности авторов и их претензий на место в научном сообществе. В этих текстах используются инвективы, метафорика обличительной речи, с помощью которых конструировались «антимиры религиозного сектантства». Атеистическое предъявлялось как норма, а религиозное - как аномалия. Тем не менее сквозь мифологические конструкты проступают реальные события и политические практики, применяемые к религиозным сообществам и отдельным верующим. Критика подобных текстов требует детально разработанной междисциплинарной методики интерпретации атеистической литературы. Данный подход предполагает выведение научно-атеистических публикаций из историографических обзоров и включение их в источниковую базу исторических исследований, позволяющую не только получить дополнительную информацию о политической и социальной истории религии в СССР, но и верифицировать данные из источников другого типа.
Евангельские церкви, баптисты, атеистическая литература, источник, источниковедение, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147245194
IDR: 147245194 | УДК: 27:930" | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-4-117-123
Текст научной статьи Атеистическая литература 1950-х-1980-х годов как источник по истории евангельских церквей СССР
Причины, побудившие автора к написанию данной статьи, вполне прозаические и связанные с ремеслом историка. В его основе лежат рутинные приёмы освоения литературы по выбранной теме, изучения исторических документов и критики источников. В нашем случае это книги, статьи, документы по истории религиозных движений и групп, в частности, материалы о евангельских общинах в позднее советское время.
При кажущейся прозаичности сюжета один вопрос требует решения или, что также немаловажно, консенсуса в его решении. Речь идёт о научном обороте специфической литературы 1950-х– 1980-х гг. в исследованиях по истории евангельских церквей – брошюр, книг, изданных под грифом «научно-атеистическая литература». По сложившейся традиции атеистическая литература, за исключением газетных и отчасти журнальных публикаций, в современных текстах о государственно-конфессиональных отношениях, по социальной истории или истории повседневности религиозной жизни в СССР чаще всего представлена в библиографическом разделе научной литературы. Основания для существующей традиции имеются, если все согласны с утверждением о том, что в советский период «религиоведение, несмотря на навязанную ему атеистически-идеологическую оболочку, прошло определённые этапы конструктивного развития…» [ Элбакян , 2011, с. 152]. Иными словами, советский научный атеизм, в рамках которого изучали религию и свободомыслие, был учебной дисциплиной и отраслью позитивного знания [ Яблоков , 2011, с. 136].
Однако история изучения в советское время евангельских христиан, баптистов, христиан веры евангельской – пятидесятников, адвентистов, т. е. тех, кого принято рассматривать как представителей русского протестантизма [ Никольская , 2009], показывает примеры разрушения и исчезновения научного знания об этих конфессиях. Так было в 1930–1950-е гг., когда «литература по сек-
тантству теряет всякий намёк на исследовательский, научно-добросовестный характер, она переводится в почётный ранг «партийной идеологии», заранее оправдывающий неприкрытый произвол в отношении верующих» [ Митрохин , 1997, с. 51–52].
Полемика вокруг научного характера атеистической литературы ещё не завершена. Наиболее аргументированно критикует советское религиоведение М. Смирнов, который отмечает:
«Всё в нём было вроде бы как полагается: академические научные учреждения, подготовка специалистов в высшей школе, теоретические труды и эмпирические исследования, обилие публикаций любого уровня – от солидных монографий до популярных брошюр. Не было только главного, без чего не может существовать нормально устроенное религиоведение, – указания именно на религию как предмет исследования с соответствующей концептуализацией взглядов и разработкой методологии, адекватной научному познанию этого предмета» [ Смирнов , 2009, с. 95].
Согласимся с этими методологическими замечаниями по поводу адекватности научноатеистических подходов к описанию явлений религиозной жизни1. Эти сомнения с некоторыми оговорками поддерживает Е. Элбакян в своих размышлениях о феномене советского религиоведения. Рассматривая базовые позиции советской «науки о религии», она пишет об отсутствии условий для выбора в области методологии исследования, неразработанном категориально-понятийном аппарате. И как вывод звучит утверждение о том, что «не было и достоверных теоретических работ, посвящённых положению религии, верующих, церкви, различных конфессий в СССР» [ Элба-кян , 2011, с. 152–153].
В то же время пропагандистская, обличительная атеистическая литература составляет внушительный объём текстов, с которым приходится сталкиваться современным историкам. До конца 1980 гг.она выпускалась немалыми тиражами. Так, работая с каталогами Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, не менее десятка наименований антирелигиозных брошюр, выпущенных Пермским книжным издательством с 1958 по 1965 г. общим тиражом 96 тыс. экземпляров. Большая часть малоформатных брошюр в 25–50 страниц вышла в серии «Библиотечка “Разговор по душам”». В предисловиях или аннотациях авторы брошюр ставили цели поколебать религиозные убеждения у одних и «вооружить пропагандистов атеизма...» агитационными материалами и приемами идеологической борьбы2.
Необходимо принципиально изменить подход в области источниковедения исторических исследований религиозной жизни в СССР и распространить методы исторической критики на весь комплекс атеистических текстов 1950–1980-х гг.
В зарубежной историографии уже давно обратили внимание на специфику антирелигиозных публикаций как источников, «в которых гораздо больше общих мест, чем конкретных примеров» [ Струве , 1957]. Но в комплексе с другими источниками пропагандистская атеистическая литература помогала в исследованиях религиозной жизни в СССР. В рамках нашей темы таким примером является работа В. Заватски «Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны» [ Заватски , 1995].
Современный отечественный опыт работы с газетными и журнальными антирелигиозными текстами как источниками по истории евангельских общин в СССР, реализованный в отдельных изданиях документов ( Советское государство… , 2004; Свобода вероисповедания… , 2010), показывает эффективность и плодотворность источниковедческих подходов к этой группе источников.
В предлагаемой статье рассматривается наиболее значимая часть общей проблемы анализа атеистической литературы как источника по истории евангельских церквей в позднесоветский период.
Внешняя критика источника всегда предполагала выявление его автора. В антирелигиозных и научно-атеистических публикациях автор указан. Даже если он использовал псевдоним, то большинстве случаев документы издательств, находящиеся в архивах, позволяют установить авторство публикации. Однако формальная атрибуция не раскрывает статус человека и его роль во властных отношениях с религиозными общинами или группами, что, несомненно, влияло на степень авторской тенденциозности в освещении событий, на способы подачи и интерпретации исторического материала.
Иногда в публикациях встречаются сведения, помогающие выявить социальную аффилиацию людей, писавших на антирелигиозные темы. Так, в статье с примечательным названием «Партийное поручение» автор сообщал: «Недавно Пермский обком КПСС направил группу пропаган- дистов в Щучье-Озерский район3, чтобы помочь наладить там антирелигиозную пропаганду» (Писманик, 1960, с. 83). В документах партийного делопроизводства существовали разные обозначения аналогичных групп, но чаще встречается название «специальная бригада обкома КПСС» (Булдаков, 1972, с. 63). В состав бригад включали лекторов обкомов партии, уполномоченных Совета по делам религий и преподавателей вузов. Современная научная литература и архивные материалы позволяют расширить номенклатуру властных институций с участием профессиональных пропагандистов и сотрудников советской высшей школы. Это были и комиссии содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах, и специальные группы, организованные для контроля над представителями религиозных сообществ. В справке Управления Комитета госбезопасности по Пермской области сообщалось: «Через созданную (в 1979 г. - А.Г.) при Г[ородском] К[омитете] КПСС спецгруппу из числа представителей партийных, советских, административных органов и ученых-атеистов (курсив мой. - А.Г.) координировались усилия общественности по разъяснению верующим <…> законодательства о религиозных культах, индивидуальной работе с ними, а также ограничению их антиобщественной деятельности» (О результатах..., 1981, л. 57).
В рамках сложившейся системы штатные лекторы и вузовские преподаватели, особенно на региональном уровне, представляли основной круг авторов антирелигиозной литературы. Они также выступали в качестве экспертов в вопросах религии. Именно в этой среде формировались характерные черты специфического персонажа, являвшегося, по образному выражению К. Антонова, своеобразным ответвлением более общего типа «партийного работника», конструирующего на основании антирелигиозного дискурса свой престиж и неповторимость:
«Как учёный, он выстраивает дискурс и соответствующий этому дискурсу объект, как эксперт - выстраивает отношения власти с объектом дискурса, как "пропагандист" - обращается к широкой аудитории, у которой нет иной возможности получить о «религии» сведения, претендующие на достоверность. При этом его основная цель не просто сообщить эти сведения, но и встроить эту аудиторию в соответствующую общему контексту систему отношений с объектом. Именно со сложностью этих функций связано своеобразие и жанровое многообразие порождаемых здесь текстов, с диссоциацией этих функций - многообразие типов "советских религиоведов", которое не сводится к простой оппозиции функционеры / истинные учёные» [ Антонов , 2014, с. 36].
Сложность этих функций, впрочем, не отменяет одну качественную характеристику текстов профессиональных пропагандистов атеизма. Независимо от степени включенности в научноисследовательскую деятельность в атеистических публикациях обязательно воспроизводились фразы и обороты, выработанные позднесоветским партийным языком. Дискурсивное «множество шаблонных структур, клише, стандартных оборотов, элементов ритуальности» предписывало, по замечанию А. Юрчака, высокую степень явного или скрытого цитирования в идеологически ориентированных текстах [ Юрчак , 2014, с. 115]. Так, А. Клибанов4 не сомневался, что в партийных документах, «основанных на исследовании состояния религиозного сектантства в стране, современный читатель найдёт богатство ключевых идей и принципиальных положений, входящих в фундамент марксистско-ленинского исследования современного сектантства. Эти принципы лежат в основе современной научной критики религиозного сектантства. Терпеливая, систематическая, теоретически обоснованная критика религиозного сектантства является необходимым условием успеха атеистического воспитания» ( Клибанов , 1974, с. 9). Иначе говоря, язык партийных директив задавал нормативные рамки атеистического видения проблем государственно-конфессиональных отношений в СССР, положения религии и верующих в советском обществе.
Методы внутренней критики атеистических публикаций показывают, что селекция исторических сведений, фактов в антирелигиозном дискурсе подчинялась общей идеологической доктрине, исключавшей религию из публичной сферы. С помощью публицистических приёмов в атеистических текстах конструировался своеобразный «антимир религиозного сектантства»5. Он выстраивался с помощью заданных властным дискурсом представлений о норме и аномалии в советском обществе. Например, в молитвенном доме баптистов, коленопреклонённые «люди усердно молятся, многие в голос или беззвучно плачут… И такое здесь отчаяние, такой страх перед богом, такая отрешенность от жизни, как будто эти люди отпевают себя на собственных похоронах, как будто все для них умерло.
А за дверями дома чудесный летний день. В окно доносится звонкий ребячий смех <.> Где-то напротив уже в третий раз заводят любимую пластинку "Летят перелётные птицы". Из-за реки доносится шум большого города, дыхание прибрежного завода… Жизнь не останавливается ни на минуту» (Писманик, 1959, с. 4).
Мифологизированный «антимир сектантов» отличался многоликостью. Так, в конце 1960-х -начале 1970-х гг. в атеистической литературе появляются образы представителей евангельских церквей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Термин «экстремизм», в интерпретации И. Бражника, «…встречается в сочетании со словами "религиозный", "сектантский", "клерикальный". Таким словосочетанием обычно обозначаются экстремистские проявления на религиозной почве, в частности противозаконные антиобщественные действия баптистов-инициативников» ( Бражник, 1974, с. 3).
Маркер «религиозный экстремизм» служил для описания социальной аномалии - широкого и нечётко определённого круга поступков и акций сторонников религиозного движения, возникшего в результате раскола союзной церковной организации евангельских христиан-баптистов (Всесоюзного совета ЕХБ) [ Заватски, 1995; Никольская, 2004; Савинский, 2001]. Власть особенно настораживало то, что представители отделившихся баптистов с конца 1960-х гг. включились в движение по защите прав верующих. Одним из приёмов «идеологической борьбы», как её понимали в те годы сотрудники Комитета госбезопасности и люди представлявшие в том числе академическую науку, была дискредитация руководителей отделившихся баптистов. Например, в атеистической брошюре, выпущенной в 1983 г. и посвящённой критике религиозного экстремизма, используется образ Д.В. Минякова6, «неоднократно судимого за нарушение закона о религиозных культах», при этом указывается на его пленение и коллаборационизм в годы Второй мировой войны. «Отбыв наказание, - сообщается в публикации, - предатель не перестал вредить советскому народу: обратился к религии, примкнул к наиболее экстремистской группировке в баптизме, стал одним из руководителей Совета церквей ЕХБ» ( Филимонов , 1983, с. 17). Таким образом, негативные коннотации и инвективы позволяли создавать в атеистической печати образы «врагов», «клеветников», «предателей», существовавших в «сектантском антимире».
В зависимости от обстоятельств и степени политической ангажированности авторы антирелигиозных текстов использовали набор речевых форм и моделей интерпретаций, нередко фальсифицирующих исторические сведения о религиозной жизни в советском обществе.
Приведём пример из брошюры, рассказывающей о евангельских христианах-баптистах Пермской области. В одном из фрагментов текста сообщается, что летом 1958 г. (в действительности событие происходило летом 1957 г. - А. Г. ) в г. Губахе во время молитвенного собрания «проповедник Шильке поучал своих слушателей следующим образом: “Читайте и выполняйте законы господа нашего Иисуса Христа, все остальные законы от лукавого”». И далее говорится, что это был прямой призыв «уклоняться от выполнения советских законов» ( Калашников , 1961, с. 37).
Однако в документах уполномоченного Совета по делам религиозных культов в Пермской области об этом эпизоде сообщается как о рассказе очевидца. Информация из вторых уст об увиденном и услышанном во время молитвенного собрания передана следующим образом: «я запомнил: “Ударят по щеке, подставляй другую”; <…> “Мы должны выполнять законы Христа, а остальное - от лукавого”; “Путь на земле должны пройти кротко, смиренно, любить всех и врагов”; “Молитесь за всех царей и начальствующих.” <_> и т. д.» (Из информационного..., 2006, с. 241).
Как легко заметить, в антирелигиозной публикации интерпретация фразы «о выполнении законов Христа» фальсифицирует смысл обращения проповедника к верующим и само событие представлено в негативном контексте.
Таким образом, когда речь идёт об источниковедческом анализе пропагандистской атеистической литературы, следует пристальнее вглядываться в язык атеистических публикаций. Он предъявляет историку часть картины мира современников событий - учёных-атеистов, вовлечённых в противостояние государства и религиозных сообществ. Методы исторической критики, включающие элементы герменевтики текстов, должны быть направлены на верификацию сведений, о событиях и явлениях в жизни евангельских церквей в позднесоветскую эпоху. В целом же основной комплекс пропагандистской научно-атеистической литературы, вооружавшей «пропагандистов атеизма конкретными знаниями идеологии» разных течений евангеликов, необходимо рассматривать как исторические источники.
Список литературы Атеистическая литература 1950-х-1980-х годов как источник по истории евангельских церквей СССР
- Антонов К.М. От дореволюционной науки о религии к советскому религиоведению: становление «советской» формации дискурса о религии и судьба системы научно-исследовательских программ // «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России XX-XXI вв. / сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова. М.: Изд-во Правосл. Свято-Тихон. гуманит. ун-т, 2014. С. 27-58.
- Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны / пер. с англ. М.: Б. и., 1995. 559 с.
- Лебина Н. Антимиры: принципы конструирования аномалий. 1950-1960-е гг. // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940-1985. / под ред. Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. М.: ООО «Вариант»; ЦСПГИ, 2008. С. 255-265.
- Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб.: РХГИ, 1997. 480 с.
- Никольская Т. История движения баптистов-инициативников // Альманах по истории русского баптизма. СПб.: Б.и., 2004. Вып. 3. С. 63-94.
- Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 гг. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2009. 356 с.
- Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Ч. 2 (1917-1967). СПб.: Б.и., 2001. 422 с.
- Смирнов М.Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2009. № 1.С. 90-106.
- Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. академии, 2013. 365 с.
- Струве Н. Религиозная жизнь в Советской России (Запись доклада, прочитанного на Съезде Движения 5-го октября 1957 г.) // Вестник РСХД. 1957. № 4. С. 23-33.
- Элбакян Е.С. Феномен советского религиоведения // Религиоведение. 2011. №3. С. 141-162.
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / предисл. А. Беляева; пер. с англ. М.: Нов. лит. обозрение, 2014. 664 с.
- Яблоков И.Н. Религиоведение и история религиоведения. Дискуссии в отечественной литературе // Религиоведение. 2011. №3. С. 127-140.