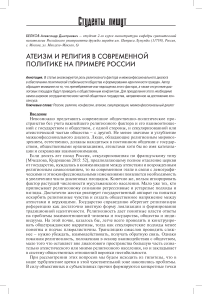Атеизм и религия в современной политике на примере России
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль религиозного фактора и межконфессионального диалога в обеспечении политической стабильности общества и формировании идентичности граждан. Автор обращает внимание на то, что пренебрежение или недооценка этого фактора, а также отсутствие диалоговых площадок будут приводить к общественным конфликтам. Для преодоления этого необходимо самое широкое сотрудничество всех частей общества и государства, направленное на достижение консенсуса.
Россия, религия, конфессии, атеизм, секуляризация, межконфессиональный диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/170204460
IDR: 170204460 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-315-320
Текст научной статьи Атеизм и религия в современной политике на примере России
Невозможно представить современное общественно-политическое пространство без учета важнейшего религиозного фактора и его взаимоотношений с государством и обществом, с одной стороны, и секуляризованной или атеистической частью общества – с другой. Не менее значимо и углубление межконфессионального диалога. Люди, обладающие религиозным мировоззрением, естественно, должны находиться в постоянном общении с государством, общественными организациями, атеистами хотя бы во имя катехизации и сохранения взаимопонимания.
Если десять лет назад Россия, секуляризованная по французскому типу [Мчедлова, Кудряшова 2015: 52], предполагающему полное отделение церкви от государства, нуждалась в коммуникации между атеистами и возрожденным религиозным самосознанием, то на современном этапе в связи с демографическими и этноконфессиональными изменениями появляется необходимость в увеличении числа диалоговых площадок. Конечно же, нельзя игнорировать фактор растущей численности мусульманского населения. Мало уже тех, кто приписывает религиозному сознанию регрессивные и устарелые подходы и взгляды. Достаточно жестко реагирует государственный аппарат на попытки оскорбить религиозные чувства и создать общественное напряжение между атеистами и верующими. Государство справедливо оберегает религиозную референцию как достаточно внятную форму лоялизации и формирования традиционной идентичности. Религиозность дает понятные власти ответы на проблемы взаимоотношений человека и государства, общества и индивидуума. На этой почве, казалось бы, легче всего проводить и конструировать общегражданские нарративы, тогда как секуляристские подходы менее понятны и подчас плюралистичны. Трансляцию смыслов проводить сложнее – нужно убеждать, взаимодействовать, получать обратную связь. Однако показная религиозность, положенная в основу взаимодействия с обществом, мало того что оставляет вне диалогового пространства большую часть сознательно атеистического или мнимо религиозного населения, но и закладывает в систему общественных отношений воронки нестабильности.
При рассмотрении этих вопросов мы будем исходить из гипотезы, что в наше турбулентное время в этой чувствительной зоне накопились проблемы. В силу объективных и субъективных причин формируются конкретные точки нестабильности, которые требуют срочной модерации. Религиозный фактор в политике может нести созидательное начало или стать инструментом разделения общества.
Сама по себе высокая религиозность и возведение ее в абсолют, провозглашение верности «Божьим заповедям» не делает их признанной нормой. Недостаточно отменить избыточную секуляризированность, вседозволенность, имеющую подчас действительно неоднозначную коннотацию. Внерелигиозность не уйдет сама по себе. Кроме того, в информационную эпоху несоответствие декларируемому легко может быть разоблачено по принципу пресловутой «голой вечеринки»1. Верно и утверждение о том, что «свобода и равенство каждого неизбежно наталкивается на проблему другого» [Мчедлова, Кудряшова 2015: 48]. Это положение, безусловно, работает и в обратную сторону. Желание катехизировать, убеждать, а в определенном смысле и навязывать может натолкнуться на противодействие как инакове-рующих, так и атеистических слоев. С другой стороны, сама по себе религия обладает огромной привлекательностью. Она есть корневая основа культурноисторического феномена идентичности, цивилизационный фундамент. При этом для России, где двумя ведущими религиозными конфессиями являются православие и ислам, важно реально определиться с объемом политического присутствия религиозного фактора. Эти две мировые религии прошли длительную трансформацию и весьма отличаются по своим подходам к взаимоотношению с российским государством. С учетом демографического фактора России число последователей ислама бурно растет. Формируется дихотомия. Кроме этого, исламское движение само по себе довольно пестрое и имеет серьезные различия, не позволяющие рассматривать эту форму религиозности как управляемую из одного центра.
Ислам и политика в Российской Федерации
Известный исламовед А. Ярлыкапов в своих работах описывает феномен исламской глобализации [Ярлыкапов 2013: 134] среди молодых мусульман на Северном Кавказе и в Поволжье. Новое духовенство, прошедшее обучение в монархиях Залива, привнесло в исламские регионы РФ различные фундаменталистские практики, которые взывают к традиционным обычаям предков (ас-саляф). На самом деле с традиционным исламом это движение имеет мало общего. Обычаи и практики, сложившиеся исторически, отменяются как неправильные. Вместо этого предлагается система взглядов «универсального, очищенного ислама», который должен объединить мусульманскую умму вне зависимости от национальной и гражданской идентичности. Достижения четырнадцати веков развития мировой религии отвергаются как испорченные и греховные.
Это движение успешно использует сетевую систему активизма и современные коммуникационные технологии. По мнению идеологов этих течений, наилучшая форма правления в государстве – исламская теократия, каковой, естественно, Россия не является. Представители «нового» ислама полагают, что во времена праведных халифов не было бедности и коррупции. Это течение является серьезным политическим фактором, основанным на запросе на социальную справедливость. Подобно марксизму начала ХХ в., оно предлагает очень простые и деструктивные решения. Исследователь Ярлыкапов подчеркивает, что молодежь Северного Кавказа испытывает в результате влияния этих идей кризис идентичности, считая себя прежде всего мусульманами, а потом уже гражданами России. Половина мечетей не находятся под управлением традиционных структур. Привычная форма контроля не работает. Исследователь бьет тревогу: «В ситуации отсутствия единства ислам не может играть стабилизирующую роль» [Ярлыкапов 2013: 137]. Формируется протестный потенциал, что подтвердили недавние события в Махачкале, когда «новыми мусульманами» по призыву сетевых проповедников был захвачен аэропорт. Призыв был направлен к мусульманам и носил антисемитский характер. Фактически он являлся манипуляцией религиозными чувствами мусульман и попыткой дестабилизации ситуации в регионе. По мнению политологов Владимира Малахова и Дениса Летнякова, в политическом поле сформировался треугольник, где политическая система с вершиной в Кремле недостаточно обращает внимание на «нетрадиционный» ислам, взаимодействуя с привычными муфтиятами [Малахов, Летняков 2018]. Ученые указывают, что в этом случае любой несогласованный исламский активизм загоняется в зону абстиненции и нелегальности. А это приводит к радикализации и формированию напряжения.
Подобные же проблемы характерны и для мусульманской трудовой миграции из стран Центральной Азии. Многие молодые мусульмане обладают российским гражданством, но при этом на территории мегаполисов (например, в Москве) они почти не имеют возможности молиться и общаться с имамами. Исторически мечетей в столице РФ всего пять на примерно четыре миллиона последователей ислама. Это позволяет феномену «нового» ислама, используя сетевые возможности, стигматизирующие настроения по отношению к мигрантам со стороны «старожилов», собирать большое число адептов. В свою очередь, тысячи молящихся на площадях и демографическая заметность миллионов приезжих провоцируют ксенофобские тенденции среди некоторых слоев населения – как православных, так и атеистов. Постоянные попытки официального муфтията согласовать строительство мечетей в г. Троицке, в таких районах Москвы, как Алтуфьево, Люблино, Дегунино, Марьино, Косино и других, наталкивались на противодействие со стороны местных жителей. Показательным в этом отношении является этнорелигиозный конфликт, происшедший в июле 2023 г. в подмосковном городе Котельники. Отчаявшиеся мусульмане, составляющие значимую часть жителей района, выкупили помещение местного хостела и оборудовали мечеть под видом культурного центра в жилом доме на площади 160 кв. м, где собирались ежедневно до 1,5 тысяч прихожан. Местные жители стали возмущаться тем, что их дворы и подъездные дороги блокируются транспортом приезжих. Начались столкновения на религиозной и этнической почве. Показательно, что в конфликте участвовали как мусульмане и православные, так и атеисты, которые выступили не только против строительства мечетей, но и против постройки новых христианских церквей1. Правомерно задать вопрос: как государство отреагировало на эту ситуацию? Хостел был закрыт и опечатан, были выписаны административные штрафы, и несколько человек были депортированы. В итоге, мусульмане молятся во дворе, общаются в сети с проповедниками «нового» ислама, т.е. проблема не решена. Многие атеисты и православные недовольны тем, что мусульмане остались. Конфликт не исчерпан и вполне может обостриться. Похожим образом замороженными остались и все остальные конфликтные зоны в других районах Москвы и Подмосковья. Данные случаи свидетельствуют, что эта чувствительная зона должна не разделять общество, а объединять его путем межконфессионального сотрудничества и серьезного и ответственного государственного модерирования, учитывая интересы всех сторон, включая нерелигиозную часть общества. Однако это не происходит.
Православие в политике Российской Федерации
С середины 1990-х гг. российское православие испытывало повышенный общественный интерес к религии. Семьдесят лет забвения, гонения и отрицания ушли в прошлое. Христианская экклесия получила возможность транслировать свои идеи не только внутри общины. Однако осторожность, свойственная церкви в силу исторических причин, и отделение ее от государства, согласно Конституции 1993 г., не позволили ей стать рупором общественных настроений. Церковь погрузилась в проблемы восстановления своих структур. Зато от имени церкви активно формировали политическую платформу околоцерковные спикеры, которых можно определить как православных фундаменталистов. Политолог А.В. Волобуев отмечает корневую связь этих идей с мессианским подходом монаха Филофея (концепция «Москва – Третий Рим») [Волобуев 2017: 60]. Опираясь на традиционные ценности православия, новые фундаменталисты критиковали либеральную модель развития за социальную несправедливость. Будучи этатистами, они верили, что государство – гарант справедливости и имеет особую ценность в противостоянии с «загнивающим Западом». Образцом государственности при этом виделось Московское царство, критиковалась петровская вестернизация и предлагались ксенофобские нарративы. В середине 1990-х гг. эти идеи, вброшенные в общественное поле, породили целый ряд трендов, которые можно расценивать как положительно, так и отрицательно. Общественная дискуссия вокруг этих идей, вначале весьма оппозиционных и даже маргинальных, привела к принятию государством и частью общества ряда положений. Примерно к середине 2010-х гг. антизападный дискурс, этатизм, идеи особого пути, ценности, основанные на религиозной традиции, и геополитические устремления уже составляли основу мейнстрима.
Однако ксенофобские и антиисламские настроения части общества, привитые под видом православия, никуда не ушли. Они дали ядовитую поросль, которая работает на разделение общества и по сей день. Проявления этого мы видим в этнорелигиозных конфликтах на территории нашей страны. Мне как праправнуку православного священника Сергея Васильевича Преображенского вдвойне неприятно это наблюдать, поскольку христианское отношение заменяется суррогатом. Ведь в Евангелии нет разделения на этносы и нет места ненависти, а есть взаимное прощение и любовь! Более того, этнофилитизм – одна из ересей, осуждаемых церковью издревле.
Исторически православная церковь России находится в симфонии, т.е. в гармоничном сотрудничестве, с действующей властью. С XVII в., после трагических событий раскола и противостояния между патриархом и царем церковь старается не выступать с политической и социальной проблематикой. Она полностью поддержала гонения на отколовшуюся часть староверов. Однако после этого все так называемые крестьянские войны и восстания XVII–XIX вв. отражали требования социальной справедливости и возвращения старой веры. Сама трагическая революция 1917 г., по мнению ряда исследователей, была последствием 250-летнего преследования самой религиозной части общества. Известно, что многие участники этого переворота были староверами и известными меценатами, финансировавшими большевиков. Данный пример наглядно иллюстрирует, как пренебрежение ролью религиозного фактора и неоправданные репрессии могут способствовать дестабилизации политической системы и даже привести к ее краху.
К сожалению, обнадеживающие тенденции, сформированные к 2015 г., когда общественные ожидания были на стороне РПЦ, уходят в прошлое. Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН фиксирует резкое падение доверия к этому религиозному институту. Так, в 2015 г. ему доверяли 55% опрошенных, а в 2021 г. – уже только 28% [Левашов и др. 2021]. Таким образом, высокий авторитет церкви в обществе после ковидного кризиса был растрачен. Не менее впечатляюще падение доверия и к социальному служению РПЦ. Его считали успешным только 43% верующих в 2021 г. против 72% в 2015 г. В нерелигиозной части общества церкви как социальному институту доверяли только 5% в 2021 г. против 15% в 2015 г. [Левашов и др. 2021]. Часть общества отгораживается от церкви либо ищет ответы в неоязычестве или радикальных проявлениях «нового» ислама. Это весьма тревожный симптом.
Заключение
Подводя итоги, можно согласиться с мнением российского исламоведа и политолога Ю.М. Почты, что поиск баланса религиозного и атеистического происходит в обществе, где на равных «сосуществуют досекулярные, секулярные и постсекулярные группы» [Почта 2022: 654]. Это объективное наблюдение крайне важно для понимания сложного процесса поиска равновесия в формировании идентичности. Если религиозное предложение, составляющее важнейшую ее часть, будет подаваться формально, то официальные религиозные структуры не смогут ответить на вызовы времени. Тенденции, выявляемые целым рядом исследователей, указывают на то, что этот месседж не доходит до большей части общества, теряется очень востребованная во все времена роль религии как заступника и духовного учителя, модератора общественных процессов.
Формализация и администрирование, а также отсутствие диалоговых площадок будут приводить к общественным конфликтам. Для преодоления этого необходимо самое широкое сотрудничество всех частей общества и государства, направленное на достижение консенсуса.
Список литературы Атеизм и религия в современной политике на примере России
- Волобуев А.В. 2017. Религиозный фундаментализм в глобализованном мире. - Век глобализации. № 1. С. 56-62. EDN: YFTZXN
- Левашов В.К. и др. 2021. Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году: монография (отв. ред. В.К. Левашов, Г.В. Осипов, С.В. Рязанцев, Т.К. Ростовская). М.: Изд-во ФНИСЦ РАН. 558 с. EDN: GJTTTK
- Малахов В., Летняков Д. 2018. Ислам в восприятии российского общества: сравнительно-политический аспект. - Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Вып. 2. С. 248-271. DOI: 10.22394/2073-7203-2018-36-2-248-271 EDN: XVRBVJ
- Мчедлова М.М., Кудряшова М.С. 2015. Российские политические аспекты современных взаимоотношений религиозного и светского. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Политология. № 3. С. 47-56. EDN: UDCUCH
- Почта Ю.М. 2022. Конструирование идентичности мусульманских регионов России в контексте формирования общероссийской идентичности. -Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: политология. Т. 24. № 4. С. 651-654. DOI: 10.22363/2313-1438-2022-24-4-651-664 EDN: EBRJRM
- Ярлыкапов А.А. 2013. Ислам на Кавказе и его влияние на конфликтность в регионе и России. - Сравнительная политика. № 3(13). С. 133-152. EDN: RTZSNR