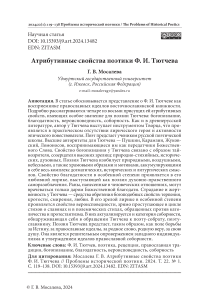Атрибутивные свойства поэтики Ф. И. Тютчева
Автор: Мосалева Г.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается представление о Ф. И. Тютчеве как восприемнике православных идеалов восточнославянской книжности. Подробно рассматриваются четыре из восьми присущих ей атрибутивных свойств, имеющих особое значение для поэзии Тютчева: богопознание, благодатность, вероисповедность, соборность. Как и в древнерусской литературе, автор у Тютчева выступает инструментом Творца, что проявляется в практическом отсутствии лирического героя и активности эпического повествователя. Поэт предстает учеником русской поэтической школы. Высшие авторитеты для Тютчева - Пушкин, Карамзин, Жуковский, Ломоносов, воспринимающиеся им как передатчики Божественного Слова. Свойство богопознания у Тютчева связано с образом тайнозрителя, созерцателя высоких зрелищ: природно-стихийных, исторических, духовных. Поэзия Тютчева изобилует природными, воздушными, небесными, а также храмовыми образами и мотивами, аккумулирующими в себе весь комплекс догматических, исторических и литургических смыслов. Свойство благодатности в особенной степени проявляется в его любовной лирике, выступающей как поэзия духовно-нравственного саморазоблачения. Раны, нанесенные в человеческих отношениях, могут врачеваться только даром Божественной благодати. Страдание и жертвенность у Тютчева - средства обретения богоподобных свойств: терпения, кротости, смирения, любви. В его зрелой лирике в особенной степени проявляется свойство вероисповедности, зримо проступающее в цикле стихов о славянах и в полемических стихах, обращенных против католичества и протестантизма. В них актуализируется и категория соборности, обнаруживающая себя в обращении Тютчева к поэту-собрату, поэту-славянину. Поэзия Тютчева предстает, таким образом, как поле борьбы за Истину, за православные идеалы, за родное слово, родную веру, за свою душу. Она является решительным опровержением западного индивидуализма и утверждением идеалов православной соборности.
Ф. и. тютчев, поэтика, рецепция, православная традиция, богопознание, благодатность, вероисповедность, соборность
Короткий адрес: https://sciup.org/147243485
IDR: 147243485 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13482
Текст научной статьи Атрибутивные свойства поэтики Ф. И. Тютчева
Н а метафизическую и онтологическую проблематику поэзии Ф. И. Тютчева одними из первых указали А. А. Фет [Фет] и В. С. Соловьев [Соловьев]. Небольшую книжку стихов Тютчева, вышедшую в 1854 г., Фет сравнил с необъятным звездным небом, а стихи — со светилами [Фет]. Каждое тютчевское стихотворение представлялось Фету солнцем, самостоятельным, светящим миром, явлением красоты, глубины и поэтической силы. Он увидел в стихах Тютчева отвагу, дерзость и вместе с тем чувство меры, необыкновенную зоркость и ясность. Если тютчевская метафизика и онтология открывалась Фету эстетически, то Соловьева интересовали «внутренний смысл и значение». В статье «Поэзия Ф. И. Тютчева» Соловьев фокусирует внимание читателя на раскрытии поэтом «темного корня мирового бытия», «таинственной основы всякой жизни, — природной и человеческой», «на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества» [Соловьев: 112]. «Этот пункт» критик проницательно назвал «ключом» «ко всей поэзии» Тютчева. В этом смысле он представлялся Соловьеву исключительным поэтом во всей мировой лирике, даже в сравнении с «олимпийцем» Гете, предпочитающим «не смущать своего олимпийского спокойствия» [Соловьев: 112] вниманием к «страшной» ночной стороне жизни.
Истоки православного мировоззрения Тютчева прояснил в биографическом очерке о поэте И. С. Аксаков [Аксаков]. Чутким к религиозной проблематике творчества Тютчева в дореволюционной России было и русское священство [Филевский], видевшее в нем глубокого религиозного поэта. Однако после исторической катастрофы 1917 г. интерес и внимание к теме православного мировоззрения в его творчестве поддерживались лишь в среде русского зарубежья ([Флоровский], [Арсеньев], [Мейер], [Оцуп]).
Что касается советского литературоведения, то эти идеи по понятным идеологическим причинам были табуированы. На протяжении многих десятилетий в атеистической России довлеющими определениями в отношении Тютчева были пантеист, поэт-романтик, шеллингианец, последователь немецкой идеалистической философии, натурфилософии, выразитель языческого античного мироощущения. Рецепция творчества поэта в контексте его интереса к славянству в критике сводилась к негативным оценкам и обвинениям Тютчева в излишних симпатиях к славянофильству, определяемому как панславизм и в силу этого термина приравниваемому к языческому обожествлению славянства.
Рецензируя юбилейный альманах 1928 г. «Урания», посвященный 125-летию со дня рождения Тютчева, и выделяя среди других статью Л. В. Пумпянского [Пумпянский], Н. Оцуп метко замечает, что исследователи последних лет определяют «живую душу поэта», что-то «свое», тютчевское, как «не подлежащее их компетенции». В результате «целое как бы опущено» [Оцуп: 151]. Ни Шеллинг, ни Державин, ни Паскаль, ни Пушкин, по мысли Н. Оцупа, не являются «ключом» к поэзии Тютчева, «сами по себе еще в тютчевских стихах ничего не объясняют». Исследователям не удается объяснить «чудо преображения» в поэзии Тютчева, дающего мыслям философов и лириков «новое, доселе невиданное, значение» [Оцуп: 152].
«Новое», а точнее возобновленное, понимание Тютчева в постсоветский период связано с возвращением к духовным истокам отечественной культуры, православной традиции в русской словесности. Это явление характерно для последних трех десятилетий. Именно обращение к творчеству поэта в контексте православной традиции открыло иного Тютчева, не законсервированного в идеологические клише и стереотипы, а неповторимого, в эстетическом и духовном плане гармонически сложного поэта. Установление христианских истоков его творчества обогатило тютчевиану новыми подходами и взглядами, самим стремлением осознать поэзию Тютчева в единстве ее религиозных и эстетических связей, воспринять ее как целое.
Об изменении вектора исследования поэтики Тютчева наглядно свидетельствуют работы, авторы которых обращаются к глубинной связи православного мировоззрения поэта с его художественными образами ([Кожинов, 1993], [Сузи, 1994, 2001], [Вересов]).
Поэзия, публицистические и философские сочинения, эпистолярное творчество Тютчева представляют собой единый нераздельный художественный Космос православно чувствующей и мыслящей личности. Выпуск Полного собрания сочинений и писем поэта в шести томах1 стал заметным явлением начала XXI в., обусловил новый виток развития тютчевианы. Вслед за ним стали появляться работы, сфокусированные на выяснении «историософии» поэта с опорой на публицистическое наследие. Определению «русской миссии» Тютчева как «дипломата и мыслителя» посвящена статья В. И. Копалова [Копалов]. Как христианский поэт и мыслитель в контексте философских и богословских связей Тютчев предстает в исследованиях Б. Н. Тарасова [Тарасов, 2006, 2012], непосредственно участвовавшего в подготовке третьего тома Полного собрания сочинений и писем поэта. Публикация в третьем томе таких публицистических произведений Тютчева, как «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Римский вопрос», «Россия и Запад» на французском языке, и их переводов, а также научного комментария к ним, выполненного Б. Н. Тарасовым, вызвали особый резонанс. Эти работы свидетельствуют о редком пророческом даре Тютчева.
В связи с полемикой о христианском наследии Тютчева принципиальное значение имеет статья И. А. Есаулова [Есаулов], аргументированно поддержавшего исследования Б. Н. Тарасова о Тютчеве как поэте христианской империи, противостоящей враждебному ей духу европейской революции.
О Тютчеве как сыне исторической России (тютчевское выражение), ревнующем о ее чести и славе, ее будущем, сокрушающемся о безбожной власти и примыкающей к ней накипи общества — цивилизованной публики , ее отрыве от настоящего народа , не обманывающегося в отношении Европы к России, свидетельствуют и письма поэта, не теряющие своей актуальности. Враждебность Европы к России Тютчев понимал как величайшую услугу, посланную России «не без промысла», поскольку она должна «принудить нас углубиться в самих себя, чтобы за ставить нас осознать себя»2. По мысли Тютчева,
«для общества, так же, как и для отдельной личности, — первое условие всякого прогресса есть самопознание» ( Сочинения ; т. 2: 103). Эти мысли были высказаны поэтом в мартовском письме П. А. Вяземскому в 1848 г. Письмо к Ю. Ф. Самарину, написанное спустя четырнадцать лет, 15 мая 1862 г., демонстрирует неизменность тютчевской аксиологии:
«…до сих пор мы еще не научились отличать наше я от нашего не я. Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют кретином . Так вот сей кретин — это наша политика» ( Сочинения ; т. 2: 217).
Чтобы проповедь о самопознании была последовательной и действенной, ее, по мысли Тютчева, нужно сначала обратить «к тем, кто нами правят и являются официальными представителями России» ( Сочинения ; т. 2: 217).
От выявления специфических свойств, связанных с христианским мировосприятием Тютчева, современные литературоведы двигаются к осознанию необходимости исследований в области теоретической поэтики. Так, в статьях, посвященных различным аспектам христианского миросозерцания поэта, Т. А. Кошемчук убедительно оспаривает мнения критиков о его пантеизме и всецелом романтизме, на широком иллюстративном материале выявляет христианский персонализм как главную доминанту творчества поэта [Кошемчук, 2006, 2008]. В работах Э. М. Афанасьевой «Молитвенная лирика Тютчева» [Афанасьева] и Т. А. Воробец [Воробец] актуализируются евангельские и литургические смыслы в единстве эстетических и религиозных связей поэтики Тютчева.
До недавнего времени такие свойства древнерусской и шире — восточнославянской — книжности, как литургичность, соборность, благодатность, являлись предметом изучения по преимуществу ученых-медиевистов. Так, в текстах восточнославянской книжности Л. Левшун выделяет восемь основных свойств: ли тургичность, благодатность (харизматичность), молитвенность, исповедность, теогнистичность (богопознание), сотериологичность, поучительность, соборность, составляющих ее неизменную основу и своеобразие [Левшун: 29–30]. Однако эти же свойства, как показывают исследования последних десятилетий, проявляются и в русской литературе Нового времени, особенно в русской классике. Все эти восемь свойств в той или иной степени обнаруживаются и в поэзии Тютчева, в большей мере — четыре: богопознание, благодатность, веро-исповедность и соборность.
Автор древнерусского текста осознает себя исключительно выразителем изображаемого, но не создателем. Почти такая же история происходит и с Тютчевым. Критики обращали внимание на практическое отсутствие в его лирике личного местоимения «я» [Кожинов, 1989: 346–347]. Это свойство особенно ярко проявляется в сравнении с предельно личной поэзией Лермонтова, у которого, по замечанию В. С. Соловьева, основная особенность — «сосредоточенность мысли на себе, на своем я , страшная сила личного чувства» [Соловьев: 279]. У Тютчева «я» либо отсутствует, либо скрывается за личную глагольную форму. Освобожденность его лирики от формальнограмматического «я» приводит ее к депсихологизации. В. В. Кожинов, наблюдавший «уклонение» от «я» даже в любовной лирике Тютчева [Кожинов, 1989: 347], позже одним из первых объяснил этот феномен влиянием на его поэзию соборности, определив ее как существенное свойство тютчевской поэтики [Кожинов, 1993]. Герой Тютчева меньше всего является лирическим героем. Возможно, поэтому из всех авторских ликов в его поэзии явственнее всего проявляется эпический повествователь. В этом смысле проницательный Б. К. Зайцев метафорически точно назвал Тютчева «лирой, на которой сама стихия брала звуки, ей ведомые». Он «лишь записывал — проносившиеся сквозь него дуновения» [Зайцев: 268]. Сам Тютчев говорит о себе как об инструменте Творца.
Вместе с тем авторская сфера в поэзии Тютчева при всей своей устойчивости претерпевает определенные изменения, связанные с осознанием автором «малости» перед Богом и «великости» той миссии, которую Творец отводит Своему творению. В лирике Тютчева 1820-х гг. на первом плане — образ певца , но не избранного и лучшего, как это характерно для европейской лирики, а одного из многих. Главная, она же и общеевропейская, тема Тютчева 1820-х гг. — это как раз тема певца и инструмента: арфа скальда, лира. Поэт вслушивается в «Бога животворный глас» («Весеннее приветствие стихотворцам»).
Стихи этого времени являют собой поэзию вслушивания , где певец предстает созерцателем и слушателем, еще способным слышать животворный глас Бога. Но дышать «божественным огнем», как это декларируется в стихотворении «Проблеск», он уже не в состоянии: «И не дано ничтожной пыли / Дышать божественным огнем». Поэзия для Тютчева 1820-х гг. — это храм Свободы, попытка достижения Рая. Задача поэта-певца — смягчать, а не тревожить сердца («К оде Пушкина на Вольность»). Воспеваемыми ценностями Тютчева этого времени являются дух силы, жизни и свободы, радость в сердце («Весеннее приветствие стихотворцам»). Он остается певцом сердечной радости до самого конца, даже при нарастании в его творчестве трагического мироощущения.
Высшим поэтическим авторитетом для Тютчева выступает Пушкин («К оде Пушкина на Вольность»). Если Тютчев связывает свой образ с игрой на арфе или лире, то Пушкин для него — «богов орган живой» («29-е января 1837»), «первая любовь России», ее сердце, но и он лишь «инструмент» Творца.
Показательно, что все образы поэтов-учителей у Тютчева соотносятся с евангельскими. В стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» поэт сравнивается с голубем ( «Поистине, как голубь, чист и цел / Он духом был...» ( Сочинения ; т. 1: 134) ) , что является парафразой из Евангелия, передающей слова Христа, обращенные к ученикам: «… будите убо мудри яко змiя, и цѣли яко голубiе » (Мф. 10:16).
В стихотворении «На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского» (1861) лейтмотивами выступают память и воспоминание. Поэт избран Музой для сохранения самого святого — род ной речи . Вино символизирует поэзию и святость, вечность, соединяющую в себе все три времени. Именно поэтому юбилей, торжество о рождении, переходит в «священные поминки» по трем «незабвенно-дорогим» поэтам: Жуковскому, Пушкину, Карамзину. Они — «незримые гости» на пире: «сочувственно витают», «освещают», подносят заздравное вино ( Сочинения ; т. 1: 157). Так утверждается идея соборности и вечной жизни.
Стихотворение «Он, умирая, сомневался…» (1865) обращено к М. В. Ломоносову, хотя его имя в тексте не называется, но парафрастически воспроизводится. Сама Родная Речь празднует по нему поминки. Стихотворение написано от лица внуков: «И мы, признательные внуки…» (Сочинения; т. 1: 172). Ломоносов поэтизируется Тютчевым как «борец ветхозаветный», как «верный Русскому уму», завоевавший Просвещенье:
«Который с Силой неземной Боролся до звезды рассветной И устоял в борьбе ночной» ( Сочинения ; т. 1: 172).
Стихотворение «На юбилей Н. М. Карамзина» (1866) создано уже после смерти историографа, поэта и писателя. Поэтическое высказывание произносится от имени поэтического братства ( «Мы, поминая братской тризной™», «Мы этот славный день почтим™», «Мы скажем™» ( Сочинения ; т. 1:184) ) , обращающегося к душе Карамзина с просьбой быть для всех путеводной, вдохновительной звездой, потому что он воспринимается как идеал русского художника, умеющего «все совокупить»: «все человечески благое, / и русским чувством закрепить» ( Сочинения ; т. 1: 184). Для поэтов-собратьев важна и сама «борьба» души Карамзина, «неудержимо» идущей к цели «на призывный Божий глас».
С 1820-х гг. и вплоть до 1860-х гг. Тютчев предстает как певец «лазури небесной» — иконического цвета («Утро в горах», «Снежные горы», «Осенний вечер», «В часы, когда бывает…», «Есть в осени первоначальной..», «Играй, покуда над тобою…»). В ранний период творчества Тютчев словно уподобляется псалмопевцу Давиду, ищущему Бога, прославляющему свое Творение. Лазурь уступает место синему и голубому цветам только в стихотворениях последнего десятилетия («Черное море»), но, по сути, они тождественны. Все три цвета символизируют у Тютчева идеи бессмертия, вечности, счастья, радости, покоя.
В лирике 1830-х гг. свойство богопознания соотносится с образом странника — зрителя не заурядных, обыкновенных, а «высоких зрелищ». Его задача — видеть все и славить Бога («Странник»). «Видеть все» для Тютчева означает видеть Невидимое для природного, оптического зрения.
Все природные образы у Тютчева одухотворены, как, например, водные: фонтан «ниспасть на землю осужден» ( Со чинения ; т. 1: 86). Как и человек, фонтан — участник трагедии отпадения от Бога. Помимо фонтана, у Тютчева часто встречаются образы ключа (родника), весенних вод, моря, дождя, грозы, радуги. Ключ (родник) выступает как явление творящей силы, образ водной глубины, имеющий свой язык.
Для поэтики Тютчева свойственно обилие небесных образов: холмы, горы, небо, звезды («Душа хотела б быть звездой…»). С небом соединен образ птицы. Жаворонки, ласточки, журавли вовлечены во вселенскую литургию: жаворонок ассоциируется с трезвоном и весной, журавли и журавлиный гул — с колокольным звоном; ласточки — символ Вечности. Образ лебедя — один из любимых у Тютчева — воплощает божественность, чистоту; орел, коршун — могущество. Ворон — довольно редкий образ в поэзии Тютчева — выступает символом вражьей силы, исторических врагов России («Вот от моря и до моря»).
С богопознанием у Тютчева соединен образ храма, появляющийся в 1830-е гг. в стихотворении «Над виноградными холмами…». Храм здесь «круглообразный» и «светлый». Там, где храм — «звук немеет», «смертной жизни места нет», празднично, там легче и «пустынно-чище». Атмосфера храма сравнивается с тишиной воскресных дней, вызывающих литургические ассоциации (светлый храм, виноград, воскресенье, златые облака). Храм на горе символизирует образ Вечной жизни, Небесного Иерусалима.
Начиная с 1840-х гг. в поэзии Тютчева появляются стихи, посвященные конкретным храмам: Исаакиевскому собору («Глядел я, стоя над Невой…»), храму Святой Софии в Царьграде («Рассвет», 1849; «Пророчество», 1850), золотому куполу храма в Царском Селе («Осенней позднею порою…»), Андреевскому храму в Киеве («Андрею Николаевичу Муравьеву»), Петропавловскому собору («Черное море»).
Образ храма у Тютчева имеет целый комплекс смыслов, охватывающих историю Православной Церкви, ее догматы и богослужение. Небесный свод — Храм.
Тютчевские храмовые образы воплощают литургические символы: Новый Завет («При посылке Нового Завета»), образ евхаристической Чаши («На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского», в цикле стихов о славянстве), благовест («Молчит сомнительно Восток»), алтарь («Хотя б она сошла с лица земного…»). Тютчев последовательно приближает читателя к внутреннему богопознанию. В стихотворении «Как этого предсмертного альбома…» умерший человек уподобляется опустевшему храму.
Храм воспринимается Тютчевым как мистическое, духовное тело — церковь Христа, в связи с чем в его поэзии возникают вероисповедные мотивы («Я лютеран люблю богослуженье…», «Ватиканская годовщина», “Encyclica”).
Вслед за образом храма в поэзии Тютчева появляется образ русского Слова («Знамя и Слово»). Русское Слово у Тютчева соотносится с образом Христа. Не случайно русское Знамя (хоругвь) является носителем Его Образа.
В 1840-е гг. в поэзии Тютчева появляется образ бредущего «бедного нищего» («Пошли, Господь, свою отраду…»). Основной конфликт, характерный для лирики этого времени, — бунт и смирение человеческого «я» (в стихотворении «Предопределение» — борьба двух «я»). Поэзия же должна лить «примирительный елей» ( Сочинения ; т. 1: 111) — примирять человека с Богом, открывать ему Бога. Таким елеем является призыв поэта к принятию человеком своих обстоятельств, к отказу от рассудочных решений («Не рассуждай, не хлопочи!..», «Смотри, как на речном просторе…»). Идеалом для Тютчева является союз человека с Богом, показанный в стихотворении «Колумб»:
«Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства Разумный гений человека
С творящей силой естества…» ( Сочинения ; т. 1: 101).
Гений, по Тютчеву, — тот, кто способен услышать божественный голос и воплотить замысел Творца.
В 1850-е гг. в цикле любовных стихотворений поэт оценивает себя как «жалкого чародея», «безжизненного кумира» («О, не тревожь меня укорой справедливой!..»). Любовная поэзия Тютчева — это поэзия самоукорения и духовно-нравственного саморазоблачения. Поэт никогда не оправдывает себя, видит правоту возлюбленной в искренней и жертвенной любви. Опыт любви приводит его к неутешительным выводам — осознанию изменчивости и убийственности человеческой любовной страсти («О, как убийственно мы любим…»). В поэтическом изображении поэта и любимой словно всегда присутствует Другой, и поэт разделяет Его божественную правду. Обращение поэта к благодати как врачующему раны души дару с особой силой проявляет себя именно в цикле любовных стихотворений. Можно сказать, что Тютчев в своей поэзии всегда утверждает правду Другого. Он поэтизирует человека страдающего, но не ради самого страдания, а ради благодатной и просветляющей силы, преображающей личность. Не случайно наряду со страданием и страдающим у Тютчева всегда присутствуют умиление, кротость, наряду с тьмой — лазоревые высоты.
Россия для Тютчева — «край долготерпенья», «край Русского народа», «земля родная», которую «всю» «исходил, благословляя», Царь Небесный («Эти бедные селенья…»). Поэт останавливает свой взгляд на внешне слабом и беспомощном, будь то явление природной или духовной жизни. Он воспевает время умирания («Есть в осени первоначальной…») не само по себе, а из-за тайны соединения временного с вечным.
В этот период в поэзии Тютчева появляются иные птицы , не конкретные, а символизирующие собой другую, неземную жизнь: птицы небесные, птицы вещие («Так, в жизни есть мгновения…»). Сама душа поэта становится вещей , передатчицей благовестия («О вещая душа моя!..»). Душа утверждается в знании: спасение только во Христе, в Его «ризе чистой» («Над этой темною толпой…»).
Знаменательно стихотворение «Теперь тебе не до стихов…». Родная речь ассоциируется со святостью. Ей предстоит сражение с мировыми силами зла:
«Все богохульные умы, Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись царства тьмы Во имя света и свободы!» ( Сочинения ; т. 1: 138).
В это «время неземное» поэт становится защитником слова, указывает на эсхатологическое событие и надеется на верность Богу слова русского, родного и оправдание перед Ним. Автор здесь выступает в образе вестника благодати и борца в роковой битве. Он готов ради святости русского слова идти на бой.
В 1860–1870-е гг. на первый план выходит поэт-брат, поэт-собрат, поэт-славянин. Одна из основных тем — христианское братство, поэтому вполне закономерно проявление в тютчевской лирике этого времени свойства вероисповед-ности. Поэт и сам проявляет себя как исповедник. В славянском братстве поэта восхищает исповеднический подвиг славянина, его готовность умирать за Христа, за евангельские заповеди («Современное» — о льющейся крови христиан, «Молчит сомнительно Восток…»).
О вероисповедности в поэтике Тютчева как об одном из сущностных свойств свидетельствует его грандиозный славянский цикл: «Славянам» («Привет вам задушевный, братья…»), «Славянам» («Они кричат, они грозятся…») — о сербах и Косовом поле; «Великий день Кирилловой кончины…», «11-ое мая 1869», «Чехам от московских славян». Стихотворения «Гус на костре» (1870) и «Два единства» (славянский мир, образ Чаши) являются итоговыми в славянском цикле Тютчева. Автор отождествляет себя с Яном Гусом — «бестрепетным свидетелем о Христе», «народа чешского святым учителем» ( Сочине ния ; т. 1: 210).
Образ души-звезды из ранней лирики («Душа хотела б быть звездой…») обогащается образом русской звезды в стихотворении о восстании христиан против турок на Крите: «Ты долго ль будешь за туманом, / Скрываться, Русская звезда…» ( Сочинения ; т. 1: 185). Россия поэтизируется Тютчевым как защитница всех притесняемых православных христиан.
Вместе с тем Тютчев понимал, что «разрешение задачи» о славянстве зависит от того, как сами славяне «понимают и чувствуют свои отношения к России»:
«В самом деле, если они — а к этому весьма склонны некоторые из них, — если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют одно с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого. Увы, через сколько бедствий вероятно придется им пройти прежде, чем они примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями» (Сочинения; т. 2: 217).
Именно в эти годы сильнее других звучит в поэзии Тютчева голос ревнителя Православия. В стихотворении “Encуc-lica” папское послание превращается в антипапское против лженаместника Христа, высказывается мысль об отстаивании чистоты Божественного Откровения. Стихотворение «Ватиканская годовщина» направлено против догмата о непогрешимости папы и на борьбу с еретиками. «Свершается заслуженная кара…» посвящено восстанию гарибальдийцев против папы; «Чехам от московских славян» — о гуситах, восставших против католичества. В стихотворении «Два единства» отражена борьба России и Запада, где противопоставлены правда Бисмарка, вооруженная железом и кровью, и правда христиан, основанная на любви. Стихотворение «Ужасный сон отяготел над нами…» — о поддержке Англией, Австрией, Францией польского восстания. Они — исторические враги России, мертвецы, притон разбойничий — разоряют край родной.
Причины непреодолимой ненависти Римского престола к исторической России как защитнице славян Тютчев подробно раскрывает в публицистике:
«Везде, где Рим ступал на землю славянских народов, он развязывал смертельную войну против их национального духа. Он уничтожал или искажал его. Он опустошил народные силы в Богемии и развратил нравственный дух в Польше; такая участь ожидала бы и все остальные славянские племена, если бы на его пути не повстречалась Россия. Отсюда его непримиримая ненависть к нам. Рим понимает, что во всякой славянской стране, где народный дух еще не до конца умерщвлен, Россия одним только своим присутствием, самим фактом своего политического существования воспрепятствует его уничтожению, и что везде, где народный дух тянется к возрождению, римским учреждениям грозят страшные неудачи. Вот каковы наши отношения с Римским п рестолом» 3 .
Поэт обличает и отечественных либералов. Стихотворение «Его светлости князю А. А. Суворову» («Гуманный внук воинственного деда…») направлено против внука Суворова, «Напрасный труд — нет, их не вразумишь…» — против «родных» либералов. Если в Европе как враге России Тютчев обнаруживает «ложь» и «озлобленье», то в «родных» поэту претит их «пошлость» ( Сочинения ; т. 1: 191), заискивание и холопство перед псевдопросвещением, историческое и духовное отступничество.
В последние годы творчества от темы славянства, связанной с вероисповедностью, Тютчев вновь возвращается к теме богопознания. Конфликт человека, «мыслящего тростника», еще не преодолен («Певучесть есть в морских волнах…»), человек оказывается перед разрушительными, апостасийны-ми силами «беспомόщным дитя» («Пожары»), а его жизнь сродни «подстреленной птице» («О, этот Юг, о, эта Ницца!..»).
Вместе с тем в последние три года в поэзии Тютчева неожиданно усиливается мотив воскресения: «Впросонках слышу я…», «Памяти М. К. Политковской», «А. В. Пл<етне>вой», «От жизни той, что бушевала здесь…». Знаковым в эти годы является стихотворение «День православного Востока…», написанное в день Пасхи 16 апреля 1872 г. и опубликованное в «Московских ведомостях» 19 апреля 1873 г. под названием «Светлое Христово Воскресение». В гимне Тютчева в честь Пасхи звучит личная просьба к Богу об исцелении дочери Марии Федоровны, умирающей от чахотки в баварском городе:
«О, дай болящей исцеленье, Отрадой в душу ей повей, Чтобы в Христово воскресенье Всецело жизнь воскресла в ней…»
( Сочинения ; т. 1: 221).
В трех предсмертных стихотворениях («Все отнял у меня казнящий Бог…», «Бессонница» («ночной момент»), «Бывают роковые дни…») еще звучат мотивы бессилия, но наряду с ними появляются мотивы молитвы, ожидания тишины, покоя, жизни и любви, счастья и веры.
Счастье, как понимает его Тютчев у «последней черты», — это сочувствие дружеской руки, теплота которой способна «отвратить судеб удар», «воскресить жизнь», оживить кровь («кровь заструится вновь») ( Сочинения ; т. 1: 222). В последнем стихотворении Тютчева читатель становится свидетелем открывшегося поэту не казнящего, а всемилосердного Бога, посылающего «неоценимый, лучший дар — / Сочувственную руку друга» ( Сочинения ; т. 1: 222). Это божественный благодатный дар, благодаря которому герой воскресает:
«Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь,
И верит сердце в правду и любовь» ( Сочинения ; т. 1: 222).
Богопознание в поэзии Тютчева венчается обретением все-милосердного Бога и лучшего дара — дара благодати — дружеского сочувствия (не за подвиг, а по любви Бога к человеку). Свойство вероисповедности обогащается чувством причастности к мировой истории, превращающейся у Тютчева в Священную историю и в метаисторию православного славянства. И в мировой истории, и в личном подвиге исповед-ничества высшим идеалом для Тютчева как православного христианина является жертвенная любовь. Его поэзия — решительное, последовательное опровержение индивидуализма и утверждение православной соборности.
В финале жизни, когда все битвы и бури, как мировые, так и личные, были позади, Тютчев совершает свой последний личный подвиг: «до конца все претерпел» и сохранил веру ( «И та ж в душе моей любовь!», «И верит сердце в правду и любовь^» ( Сочинения ; т. 1: 222) ) . Веру как свойство богопознания, а не рассудок Тютчев — один из выдающихся мыслителей Европы — ценил более всего. Отсюда и его знаменитое «Умом Россию не понять…». По Тютчеву, «умом» не понять не только Россию, но и мировые, природные, социальные катаклизмы и собственную душу. Присутствие в тютчевской поэзии вероисповедности, соборности, богопознания и благо-датности обусловили ее неисчерпаемую глубину.
Список литературы Атрибутивные свойства поэтики Ф. И. Тютчева
- Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М.: Современник, 1981. С. 285–354.
- Арсеньев Н. С. О мистической поэзии Шелли, Тютчева и Хуана де ла Крус // Арсеньев Н. С. О красоте в мире: сб. ст. Мадрид: [б. и.], 1974. С. 49–85.
- Афанасьева Э. М. Молитвенная лирика Тютчева // Духовные начала русского искусства и образования: мат-лы 5-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием «Духов. начала рус. искусства и образования» («Никитские чтения») (Великий Новгород, 10–14 мая 2005 г.). Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2005. С. 180–189.
- Вересов Д. А. Концепция евангельского слова в поэтике Ф. И. Тютчева (Постановка темы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 264–268 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2504 (12.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2504
- Воробец Т. А. Метасюжет Преображения как единый семантический код лирики Ф. И. Тютчева: автореф. дис. … канд. филол. наук. Омск, 2007. 25 с.
- Есаулов И. А. Россия и революция: вокруг наследия Ф. И. Тютчева // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. 2007. № 1. С. 112–122.
- Зайцев Б. К. Тютчев. Жизнь и судьба (К 75-летию кончины) // Зайцев Б. К. Собр. соч. М.: Русская книга, 2000. Т. 9 (доп.): Дни. Мемуар. очерки, ст., заметки, рец. С. 256–269.
- Кожинов В. В. Тютчев // История всемирной литературы: в 9 т. М.: Наука, 1989. Т. 6. С. 344–349.
- Кожинов В. В. Соборность поэзии Тютчева (К 190-летию со дня рождения поэта) // Наш современник. 1993. № 12. С. 167–172.
- Копалов В. И. Тютчев — дипломат и мыслитель // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2004. Вып. 8. № 33. С. 140–146.
- Кошемчук Т. А. Ф. И. Тютчев: аспекты христианского миросозерцания // Кошемчук Т. А. Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб.: Наука, 2006. С. 177–287.
- Кошемчук Т. А. «Бездна» в христианской традиции и в поэзии Ф. И. Тютчева // Русская речь. 2008. № 4. С. 14–20 [Электронный ресурс]. URL: https://russkayarech.ru/ru/archive/2008-4/14-20 (09.02.2023).
- Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. Минск: Экономпресс, 2001. 352 с.
- Мейер Г. А. Жало в дух: обморок веры живой (место Тютчева в метафизике российской литературы) // Возрождение. Париж, 1954. № 32. Март — апрель. С. 160–177.
- Оцуп Н. Ф. И. Тютчев // Числа: cборники литературы, искусства и философии / под ред. И. В. де Манциарли и Н. А. Оцупа. Париж: Cahiers de l’Étoile, 1930. Кн. 1. С. 150–161.
- Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева // Урания: Тютчевский альманах. 1803–1928. Л.: Прибой, 1928. С. 9–57.
- Соловьев В. С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. 422 с.
- Сузи В. Н. Богородичные мотивы в пейзажной лирике Тютчева // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 170–179 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2380 (24.01.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2380
- Сузи В. Н. Христос в поэзии Ф. И. Тютчева // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 310–326 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2629 (27.01.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2629
- Тарасов Б. Н. Историософия Ф. И. Тютчева в современном контексте. М.: Наука, 2006. 159 с.
- Тарасов Б. Н. «Тайна человека» и тайна истории. Непрочитанный Чаадаев. Неопознанный Тютчев. Неуслышанный Достоевский. СПб.: Алетейя, 2012. 352 с.
- Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/f/fet_a_a/text_0270.shtml (27.02.2023).
- Филевский Иоанн, свящ. Религиозно-философские воззрения Ф. И. Тютчева // Мирный труд. 1904. № 4. С. 86–95.
- Флоровский Г. В. Исторические прозрения Тютчева // Флоровский Г. В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 223–235. (Сер.: Путь к очевидности.)