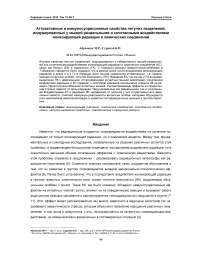Аттрактивные и иммуносупрессивные свойства летучих выделений, индуцированных у мышей раздельными и сочетанными воздействиями ионизирующей радиации и химических соединений
Бесплатный доступ
Изучали свойства летучих выделений, индуцированных у лабораторных мышей раздельными или сочетанными воздействиями ионизирующей радиации и химических соединений (ХС), таких как бензол (БЗ) и гидрохинон (ГХ). С помощью реакции предпочтения-избегания в Т-образном лабиринте было показано, что в ранние сроки после воздействия ионизирующей радиации в дозах 2 и 4 Гр в образцах мочи мышей содержатся аттрактивные, т.е. привлекающие интактных особей, летучие компоненты (ЛК). Введение БЗ, так же как и ГХ вызывает выделение ЛК с аверсивными, отталкивающими интактных мышей свойствами. Сочетанное воздействие радиации и ХС приводит к некоторой взаимной компенсации влияния ЛК на реакцию предпочтения-избегания интактных мышей. Рассматриваемые эффекты в определенной степени зависят от дозы радиации. Индуцированные как раздельными, так и сочетанными воздействиями ХС и радиации ЛК, независимо от наличия у них аттрактивных или аверсивных свойств, угнетают иммунную реактивность интактных особей. Авторами обсуждается роль механизмов хемосигнализации в развитии пострадиационных реакций в группах животных.
Ионизирующая радиация, химические соединения, сочетанные воздействия, летучие выделения животных, поведенческие и иммунные реакции
Короткий адрес: https://sciup.org/170170013
IDR: 170170013
Текст научной статьи Аттрактивные и иммуносупрессивные свойства летучих выделений, индуцированных у мышей раздельными и сочетанными воздействиями ионизирующей радиации и химических соединений
Известно, что радиационные инциденты сопровождаются воздействием на организм пострадавших не только ионизирующей радиации, но и химических веществ. Между тем, фундаментальные и прикладные исследования, направленные на решение различных аспектов этой проблемы, в подавляющем большинстве посвящены последствиям воздействия радиации, но в значительно меньшем объеме сочетанным эффектам с химическими веществами. Важность этой проблемы отражена в предложении – рассматривать радиационные катастрофы как радиационно-токсические [5]. Сложность анализа последствий таких инцидентов обусловлена и тем, что их развитие в группах сопровождается вкладом эмоционально-психологических эффектов [5]. Ранее было установлено, что в последствиях воздействия ионизирующей радиации в группах животных значительную роль играют летучие компоненты (ЛК), выделяемые облученными особями с мочой. Такие ЛК, как было показано, обладают иммуносупрессивным эффектом на интактных членов группы, влияют на их поведенческие реакции и вызывают своего рода цепную реакцию умножения и распространения пострадиационных нарушений в группе [ 7 11]. Этот эффект может рассматриваться как аналог известного в медицине катастроф так называемого семантического стресса, которым объясняют появление нарушений различных показателей, в том числе и иммунитета, у лиц, непосредственно не затронутых повреждающим воздействием, но коммуникативно-вовлеченных в поставарийную ситуацию [4].
Было также установлено, что мыши, подвергнутые воздействию ионизирующей радиации в сублетальных дозах [10], солей тяжелых металлов [14] или иммунодепрессантов [13], помимо ЛК, влияющих на поведенческие реакции, выделяют с мочой ЛК, которые угнетают первичный тимусзависимый ответ у интактных мышей. Свойства ЛК, продуцируемых после сочетанных воздействий радиации и нерадиационных факторов как в отношении влияния на поведенческие, так и иммунные реакции, не изучены.
В связи с вышесказанным, актуальным представляется изучение свойств ЛК, индуцированных раздельным или сочетанным воздействием ионизирующей радиации и токсических веществ.
В настоящей работе в качестве индукторов ЛК были использованы раздельные и сочетанное воздействия ионизирующей радиации в сублетальных дозах и таких химических соединений (ХС), как бензол (БЗ) и его метаболит гидрохинон (ГХ), который обладает свойствами радиотоксинов [1].
Материалы и методика
Эксперименты выполнены на мышах-самцах СВА массой 25-30 г, полученных из питомника “Столбовая” и содержавшихся в условиях вивария на обычном пищевом рационе. Животных выдерживали не менее двух недель до начала эксперимента в одних и тех же стандартных пластиковых боксах.
Нами были исследованы свойства ЛК, продуцируемые с мочой, после тотального облучения мышей гамма-лучами 60 Со на установке “Гамма-целл-220” (“Atomic Energy Canada Limited”, Канада) с мощностью 18,1 сГр/мин в дозе 2 или 4 Гр, а так же после введения БЗ или ГХ, соответственно, в дозах 2,8 г/кг и 100 мг/кг в 0,3 мл физиологического раствора подкожно или после сочетанного воздействия ионизирующей радиации и перечисленных ХС в указанных дозах. Контролем для группы облученных мышей служили ложно облученные мыши; контролем для групп мышей, получивших ХС, были мыши, которым вводили по 0,3 мл физиологического раствора подкожно; контролем для животных, подвергнутых сочетанным воздействиям, служили ложно облученные мыши с введением 0,3 мл физиологического раствора подкожно.
При изучении относительной аттрактивности интактных мышей-реципиентов к ЛК, выделяемым сравниваемыми группами животных, использовали образцы мочи, впитавшейся в течение суток в бумажную подстилку (лист фильтровальной бумаги), помещенную в разные сроки после вышеуказанных воздействий под сетчатое дно из нержавеющей стали боксов, в которых содержались животные контрольной или подопытных групп.
Для исследования аттрактивных свойств ЛК применяли модификацию Т-образного лабиринта [7, 12], в котором имелось “поле выбора” размером 50x50 см с высотой стенок 35 см, над ним на расстоянии 50 см находилась галогенная лампа мощностью 100 Вт. С противоположных внешних сторон “поля” находились два “укрытия” (светонепроницаемые пластиковые коробки 15x10x5 см), в которые мыши-тестеры могли свободно проникать через отверстия в стенках поля. Мышей-тестеров (10 самцов СВА) помещали по шесть раз на середину “поля” и наблюда- ли, какое из “укрытий” выберет данная особь. Положительным выбором – предпочтением – считалась окончательная задержка особи-тестера в определенном “укрытии” без попытки выхода не менее 0,5 минуты. Величину относительной аттрактивности оценивали по частоте предпочтения – выбору интактными мышами-тестерами одного из “укрытий”, содержащих подстилки с образцами мочи от сравниваемых групп. Частоту предпочтения рассчитывали по формуле П=(У:60)х100 %, где У - количество предпочтений “укрытия” из 60 возможных. Достоверность различий определяли с помощью критерия парного сравнения Вилкоксона.
По окончании эксперимента мы оценивали относительную аттрактивность образцов мочи от следующих сравниваемых групп мышей-доноров ЛК: контроль/облучение 2 Гр (К/2 Гр); кон-троль/ХС (К/ХС); облучение 2 Гр/ХС (2 Гр/ХС); контроль/облучение 2 Гр+ХС (К/2 Гр+ХС); облучение 2 Гр/облучение 2 Гр+ХС (2 Гр/2 Гр+ХС); ХС/облучение 2 Гр+ХС (ХС/2 Гр+ХС). В другой серии опытов сравниваются аналогичные группы, но c дозой радиации 4 Гр и с такими же дозами ХС.
Для оценки иммуномодулирующих свойств рассматриваемых ЛК образцы мочи на бумажной подстилке, полученные в течение третьих суток после раздельных или сочетанных воздействий ионизирующей радиации и ХС, переносили к интактным мышам-реципиентам под сетчатое дно бокса. В контрольной группе использовали образцы мочи от другой группы интактных мышей. Через одни сутки после экспозиции мышей-реципиентов иммунизировали ЭБ в дозе 1х10 8 клеток/мышь. На четвертые сутки после иммунизации их декапитировали под эфирным наркозом и определяли содержание антителообразующих клеток (АОК) методом Каннингема. Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты
При исследовании аттрактивных свойств рассматриваемых ЛК во всех случаях определяли частоту относительных предпочтений интактными тестерами двух сравниваемых образцов мочи. Сравнение ЛК, содержащихся в моче контрольных, интактных мышей, с ЛК облученных в дозе 2 или 4 Гр обнаружило более высокую аттрактивность пострадиационных ЛК (здесь и далее приведены только достоверные результаты). Тестеры предпочитали “укрытия” с образцами мочи, полученными в течение 2-х и 3-х суток после облучения в дозе 2 Гр (табл. 1 и 3; группы К/2 Гр) и с 1-х по 7-е сутки после воздействия в дозе 4 Гр (табл. 2 и 4; группы К/4 Гр).
Аналогичный эксперимент с оценкой свойств ЛК, индуцированных введением БЗ, выявил их аверсивность – пониженную их аттрактивность по сравнению с контролем (табл. 1 и 2, группы К/БЗ). Мыши-тестеры избегали “укрытия” с образцами мочи, полученными в течение 10 суток после введения БЗ, предпочитая ЛК контрольных животных. Отталкивающими интактных тестеров, аверсивными свойствами обладали и ЛК, индуцированные в течение 3-х суток введением ГХ (табл. 3 и 4, группы К/ГХ).
Таблица 1
Относительная аттрактивность (M±m, %) интактных мышей к ЛК особей, подвергнутых раздельным и сочетанным воздействиям радиации (2 Гр) и БЗ
|
Время после воздействия, сут |
Сравниваемые группы |
|||||
|
К/2 Гр |
К/БЗ |
2 Гр/БЗ |
К/2 Гр+БЗ |
2 Гр/2 Гр+БЗ |
БЗ/2 Гр+БЗ |
|
|
1 |
46,7/53,3 |
55,0*/45,0 |
53,3*/46,7 |
51,7/48,3 |
53,3*/46,7 |
43,3/56,7* |
|
2 |
43,3/56,7* |
55,0*/45,0 |
56,7*/43,3 |
50,0/50,0 |
56,7*/43,3 |
45,0/55,0* |
|
3 |
45,0/55,0* |
56,7*/43,3 |
56,7*/43,3 |
43,3/56,7* |
58,3*/41,7 |
43,3/56,7* |
|
4 |
53,3/46,7 |
58,3*/41,7 |
53,3/46,7 |
51,7/48,3 |
55,0*/45,0 |
43,3/56,7* |
|
7 |
50,0/50,0 |
73,3*/26,7 |
55,0*/45,0 |
58,3*/41,7 |
55,0*/45,0 |
46,7/53,3 |
|
8 |
48,3/51,7 |
60,0*/40,0 |
58,3*/41,7 |
58,3*/41,7 |
53,3*/46,7 |
48,3/51,7 |
|
10 |
- |
61,7*/38,3 |
56,7*/43,3 |
56,7*/43,3 |
53,3*/46,7 |
46,7/53,3 |
|
13 |
- |
48,3/51,7 |
46,7/53,3 |
50,0/50,0 |
51,7/48,3 |
48,3/51,7 |
|
14 |
- |
53,3/46,7 |
50/50 |
48,3/51,7 |
51,7/48,3 |
51,7/48,3 |
|
15 |
- |
48,3/51,7 |
48,3/51,7 |
48,3/51,7 |
51,7/48,3 |
51,7/48,3 |
Примечание: * - достоверное предпочтение по парному критерию Вилкоксона.
Таблица 2
Относительная аттрактивность (M±m, %) интактных мышей к ЛК особей, подвергнутых раздельным и сочетанным воздействиям радиации (4 Гр) и БЗ
|
Время после воздействия, сут |
Сравниваемые группы |
|||||
|
К/4 Гр |
К/Б |
Гр/БЗ |
К/Гр+БЗ |
4 Гр/Гр+БЗ |
БЗ/Гр+БЗ |
|
|
1 |
40,0/60,0* |
56,7*/43,3 |
60,0*/40,0 |
48,3/51,7 |
55,0*/45,0 |
45,0/55,0* |
|
2 |
43,3/56,7* |
56,7*/43,3 |
58,3*/41,7 |
45,0/55,0 |
58,3*/41,7 |
41,7/58,3* |
|
3 |
38,3/61,7* |
61,7*/38,3 |
71,7*/28,3 |
41,7/58,3* |
70,0*/30,0 |
43,3/56,7* |
|
4 |
43,3/56,7* |
58,3*/41,7 |
56,7*/43,3 |
43,3/56,7* |
61,7*/38,3 |
45,0/55,0* |
|
7 |
40,0/60,0* |
61,7*/38,3 |
56,7*/43,3 |
58,3/41,7 |
55,0*/45,0 |
45,0/55,0* |
|
8 |
50,0/50,0 |
60,0*/40,0 |
58,3*/41,7 |
56,7*/43,3 |
55,0*/45,0 |
48,3/51,7 |
|
10 |
48,3/51,7 |
56,7*/43,3 |
63,3*/36,7 |
55,0*/45,0 |
56,7*/43,3 |
50,0/50,0 |
|
13 |
53,3/46,7 |
48,3/51,7 |
45,0/55,0 |
48,3/51,7 |
48,3/51,7 |
46,7/53,3 |
|
14 |
46,7/53,3 |
53,3/46,7 |
46,7/53,3 |
50,0/50,0 |
53,3/46,7 |
48,3/51,7 |
|
15 |
48,3/51,7 |
48,3/51,7 |
51,7/48,3 |
46,7/53,3 |
50,0/50,0 |
48,3/51,7 |
Примечание: * - достоверное предпочтение по парному критерию Вилкоксона.
Таблица 3
Относительная аттрактивность (M±m, %) интактных мышей к ЛК особей, подвергнутых раздельным и сочетанным воздействиям радиации (2 Гр) и ГХ
|
Время после воздействия, сут |
Сравниваемые группы |
|||||
|
К/2 Гр |
К/ГХ |
2 Гр/ГХ |
К/2 Гр+ГХ |
2 Гр/2 Гр+ГХ |
ГХ/ 2 Гр+ГХ |
|
|
1 |
46,7/53,3 |
56,7*/43,3 |
60,0*/40,0 |
53,3/46,7 |
61,7*/38,3 |
41,7/58,3* |
|
2 |
41,7/58,3* |
58,3*/41,7 |
56,7*/43,3 |
48,3/51,7 |
60,0*/40,0 |
43,3/56,7* |
|
3 |
40,0/60,0* |
58,3*/41,7 |
58,3*/41,7 |
51,7/48,3 |
58,3*/41,7 |
40,0/60,0* |
|
4 |
53,3/46,7 |
46,7/53,3 |
51,7/48,3 |
55,0/45,0 |
51,7/48,3 |
50,0/50,0 |
|
6 |
48,3/51,7 |
46,7/53,3 |
55,0/45,0 |
55,0/45,0 |
51,7/48,3 |
48,3/51,7 |
|
7 |
48,3/51,7 |
51,7/48,3 |
51,7/48,3 |
50,0/50,0 |
51,7/48,3 |
48,3/51,7 |
Примечание: * - достоверное предпочтение по парному критерию Вилкоксона.
Таблица 4
Относительная аттрактивность (M±m, %) интактных мышей к ЛК особей, подвергнутых раздельным и сочетанным воздействиям радиации (4 Гр) и ГХ
|
Время после воздействия, сут |
Сравниваемые группы |
|||||
|
К/4 Гр |
К/ГХ |
4 Гр/ГХ |
К/4 Гр+ГХ |
4 Гр/4 Гр+ГХ |
ГХ/4 Гр+ГХ |
|
|
1 |
40,0/60,0* |
60,0*/40,0 |
60,0*/40,0 |
45,0/55,0* |
55,0*/45,0 |
45,0/55,0* |
|
2 |
43,3/56,7* |
65,0*/35,0 |
58,3*/41,7 |
46,7/53,3 |
58,3*/41,7 |
33,3/66,7* |
|
3 |
38,3/61,7* |
68,3*/31,7 |
56,7*/43,3 |
40,0/60,0* |
61,7*/38,3 |
38,3/61,7* |
|
4 |
43,3/56,7* |
56,7/43,3 |
56,7*/43,3 |
46,7/53,3 |
55,0*/45,0 |
36,7/63,3* |
|
7 |
40,0/60,0* |
53,5/46,7 |
56,7*/43,3 |
46,7/53,3 |
56,7/43,3 |
43,3/56,7* |
|
8 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
48,3/51,7 |
46,7/53,3 |
51,7/48,3 |
48,3/51,7 |
Примечание: * - достоверное предпочтение по парному критерию Вилкоксона.
При сравнении аттрактивных свойств ЛК, продуцируемых мышами после облучения в дозах 2 и 4 Гр и после введения БЗ, мыши-тестеры предпочитали образцы мочи облученных особей (табл. 1, группы 2 Гр/БЗ; табл. 2, группы 4 Гр/БЗ). Эффект наблюдался в течение 10 суток независимо от дозы радиации.
В аналогичном эксперименте с введением ГХ мыши-тестеры также предпочитали “укрытия” с образцами мочи от облученных животных: в течение 3-х суток после облучения в дозе 2 Гр (табл. 3; группы 2 Гр/ГХ) и с 1-х по 7-е сутки - образцы мочи облученных в дозе 4 Гр мышей (табл. 4, группы 4 Гр/ГХ).
Выделение животными ЛК, существенно различающихся по влиянию на реакцию предпочтения-избегания, наблюдали и при сочетанных воздействиях радиации и ХС. Так, в случае ГХ сочетанный эффект зависел от дозы радиации. При минимальной использованной здесь дозе (2 Гр) достоверных различий в предпочтении ЛК какой-либо из сравниваемых групп (табл. 3, группы К/2 Гр+ГХ) не обнаружено. При повышении дозы радиации до 4 Гр (табл. 4, группы К/4 Гр+ГХ) в первые и третьи сутки преобладают аттрактивные пострадиационные выделения. В случае же БЗ подобных закономерностей не выявлено (табл. 1, группы К/2 Гр+БЗ; табл. 2, группы К/4 Гр+БЗ). На третьи сутки (табл. 1) или с третьих по четвертые сутки (табл. 2) преобладает аттрактивность ЛК, индуцированных сочетанными воздействиями радиации и БЗ. С седьмых по десятые сутки (табл. 1) или с восьмых по десятые сутки (табл. 2) предпочтительными для интактных самцов становятся ЛК контрольных интактных животных.
В опытах сравнения аттрактивных свойств ЛК таких групп, как 2 Гр/2 Гр+БЗ (табл. 1) и 2 Гр/2 Гр+ГХ (табл. 3), а также групп 4 Гр/4 Гр+БЗ (табл. 2) и 4 Гр/4 Гр+ГХ (табл. 4) были получены данные, которые подобны результатам сравнения групп К/БЗ (табл. 1 и 2) и К/ГХ (табл. 3 и 4). Вероятно, что при сочетанном воздействии выделяющиеся ЛК с противоположно направленными свойствами взаимно нейтрализуются.
Сравнение аттрактивных свойств ЛК мышей, получивших ХС, и мышей после сочетанного воздействия радиации и ХС также свидетельствует о доминировании аттрактивных свойств пострадиационных ЛК (табл. 1-4).
С первых по четвертые сутки (табл. 1, группы БЗ/2 Гр+БЗ) и с первых по третьи сутки (табл. 3, группы ГХ/2 Гр+ГХ) наблюдалась повышенная привлекательность ЛК, продуцируемых после сочетанного воздействия. С увеличением дозы радиации до 4 Гр данный эффект сохра- няется, но более протяженно - с первых по седьмые сутки (табл. 2, группы БЗ/4 Гр+БЗ; табл. 4, группы ГХ/4 Гр+ГХ).
В данной работе было также исследовано влияние ЛК, индуцированных вышеуказанными воздействиями, на иммунологическую реактивность мышей-реципиентов, оцениваемую по содержанию АОК в селезенке. Так, содержание АОК в селезенке группы реципиентов, экспонированных с ЛК облученных в дозе 2 Гр животных, не отличалось от контрольного уровня, но было снижено при увеличении дозы радиации до 4 Гр (табл. 5). У реципиентов, экспонированных с ЛК мышей, получивших БЗ или ГХ, количество АОК в селезенке было снижено по сравнению с контрольной группой (1-4 серии опытов).
Таблица 5
Иммунологические показатели (М±т) у интактных мышей после экспозиции с ЛК интактных особей или подвергнутых изолированным и сочетанному воздействию радиации (2, 4 Гр) и БЗ или ГХ
|
Группа животных-доноров ЛК |
Количество АОК в селезенке, 1 х 103 |
|
1 серия опытов |
|
|
ЛК мышей контрольной группы |
151±16,7 (100±11,1) |
|
ЛК облученных мышей, 2 Гр |
114±11,5 (75,4±7,7) |
|
ЛК мышей, получивших БЗ |
82±4,9 (54,7±3,3)* |
|
ЛК мышей, получивших БЗ+облучение 2 Гр |
60±7,7 (39,8±5,1)* '*'° |
|
2 серия опытов |
|
|
ЛК мышей контрольной группы |
72±13,3 (100±4,6) |
|
ЛК облученных мышей, 4 Гр |
56,2±5,2 (77,8±7,7)* |
|
ЛК мышей, получивших БЗ |
38,4±7,4 (53,3±10,2)* |
|
ЛК мышей, получивших БЗ+облучение 4 Гр |
25,5±5,7 (35,4±7,9)* '" |
|
3 серия опытов |
|
|
ЛК мышей контрольной группы |
178±13,4 (100±7,5) |
|
ЛК облученных мышей, 2 Гр |
224±18,9 (125,8±10,6) |
|
ЛК мышей, получивших ГХ |
106±6,5 (59,8±3,7)* '" |
|
ЛК мышей, получивших ГХ+облучение 2 Гр |
147±3,4 (82,6±1,9)* '*'° |
|
4 серия опытов |
|
|
ЛК мышей контрольной группы |
226±19,2 (100±7,2) |
|
ЛК облученных мышей, 4 Гр |
163±20,0 (61,4±7,2)* |
|
ЛК мышей, получивших ГХ |
146±25,5 (54,8±9,6)* |
|
ЛК мышей, получивших облучение 4 Гр+ГХ |
169±11,3 (63,6±4,3)* |
Примечание: * - Р<0,05 по критерию Стьюдента относительно контроля;
-
• - Р<0,05 по критерию Стьюдента относительно группы облученных мышей;
-
◊ - Р<0,05 по критерию Стьюдента относительно группы животных, получивших БЗ или ГХ; в скобках - % к контролю.
Иммунологические показатели мышей, экспонированных с ЛК особей, подвергнутых сочетанному воздействию ионизирующей радиации и ХС, также отличались от контроля. Содержание в селезенке АОК было снижено у мышей, экспонированных с ЛК особей, подвергнутых сочетанному воздействию радиации и БЗ, а также групп облученных (2 Гр) или получивших БЗ особей (1 серия опытов).
Во второй серии опытов у мышей, экспонированных с ЛК особей, получивших БЗ и облученных в дозе 4 Гр, аналогичные показатели были достоверно снижены относительно контроля и эффекта ЛК облученных особей без введения БЗ.
В 3-й серии опытов подопытные группы животных были подвергнуты раздельному и сочетанному воздействиям радиации (2 Гр) и ГХ. Количество АОК в селезенке особей, которых экспонировали с ЛК мышей, получивших ГХ, было достоверно снижено относительно контроля и группы животных, экспонированных с ЛК облученных 2 Гр животных. У мышей, экспонированных с ЛК особей, получивших ГХ в сочетании с облучением, данный показатель отличался от контроля, а также от группы экспонированных с ЛК облученных в дозе 2 Гр, или экспонированных с ЛК группы животных, получивших ГХ.
Экспонирование реципиентов с ЛК мышей, облученных в дозе 4 Гр и получивших ГХ (4-я серия опытов) привело к снижению содержания АОК в селезенке относительно контрольной группы животных. По отношению к другим подопытным группам достоверных изменений не обнаружено.
Обсуждение результатов
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что способностью индуцировать у животных выделение с мочой отсутствующих в норме ЛК обладает не только ионизирующая радиация, но и органические химические вещества, а также сочетание этих факторов. Продуцируемые при этом ЛК модифицируют поведенческие и иммунные реакции у интактных особей, и, следовательно, модифицируют механизмы хемосигнализации в группах и популяциях.
Имеющиеся в литературе сведения о роли летучих хемосигналов в жизнедеятельности животных преимущественно относятся к физиологическим условиям. С их помощью регулируются зоосоциальное поведение, репродуктивная и другие функции [2, 3, 6, 16]. Среди немногочисленных сведений о хемосигналах, выделяемых при патологических состояниях [2, 7, 17, 19], доминируют данные об аттрактивных и иммуносупрессивных пострадиационных ЛК [10, 11].
Среди представленных выше данных примечательным является и тот факт, что аттрактивные и аверсивные свойства ЛК, наблюдаемые при раздельных воздействиях радиации и ХС, взаимно компенсируются в случае сочетанных воздействий данных факторов. Это позволяет предполагать, что образование хемосигналов с противоположными свойствами осуществляется независимо. Следовательно, различаются и механизмы их индукции воздействием радиации или ХС.
Механизмы синтеза физиологически-значимых хемосигналов и выделения их с мочой, химическая их структура остаются мало изученными [3]. Считается, что физиологический эф- фект хемосигналов может быть обусловлен не одним, а сочетанием нескольких индивидуальных веществ [18, 20]. Ранее была установлена способность животных продуцировать как хемосигналы с аттрактивными свойствами при воздействии ионизирующей радиации в сублетальных дозах, так и аверсивные хемосигналы, которые появляются в терминальный период после её воздействия в летальных дозах [7]. Между тем, аверсивные хемосигналы, как показано в данной работе, индуцируют и химические вещества.
Справедливым, возможно, является представление о том, что животные обладают механизмами неспецифической хемосигнализации другим особям группы о наличии патологического состояния [7], отражая при этом глубину и стадию поражения. Такие хемосигналы способны дистанционно различным образом модифицировать не только поведенческие и иммунные реакции животных в группах и популяциях, но и, как свидетельствуют многочисленные данные [2, 3, 6, 15-20], существенно влиять на их репродуктивное поведение. Для прогноза экологических последствий влияния рассматриваемых ЛК немаловажным является также ранее показанный эффект распространения и умножения обусловленных хемосигналами нарушений в группах животных [9].
Заключение
Таким образом, представленные результаты сравнительной оценки аттрактивных свойств рассматриваемых ЛК свидетельствуют о том, что они обладают разнонаправленным влиянием на поведенческие реакции интактных животных. Ионизирующая радиация в сублетальных дозах индуцирует выделение аттрактивных, привлекающих интактных мышей ЛК. Свойства этих ЛК в некоторой степени зависят от дозы ионизирующей радиации, что отражается в продолжительности их выделения. Введение БЗ или ГХ приводит к появлению аверсивных ЛК, отталкивающих интактных особей. При сочетанных воздействиях радиации и ХС, как можно предполагать, выделение ЛК с противоположными свойствами происходит независимо. В пользу этого свидетельствует взаимная компенсация их влияния на поведение животных.
Как аттрактивные, так и аверсивные ЛК, индуцированные рассматриваемыми факторами, способны снижать иммунную реактивность интактных особей.
Следовательно, сочетанные или раздельные воздействия радиации и химических веществ на животных сопровождаются выделением различных летучих хемосигналов, которые индуцируют у других особей нарушения поведенческих и иммунных реакций, что может иметь существенные экологические последствия.
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Калужской области (проект № 09-04-97505).
Список литературы Аттрактивные и иммуносупрессивные свойства летучих выделений, индуцированных у мышей раздельными и сочетанными воздействиями ионизирующей радиации и химических соединений
- Кузин А.М. Структурно-метаболическая гипотеза в радиобиологии. М.: Наука, 1970. 221 с.
- Мошкин М.П., Герлинская Л.А., Евсиков В.И. Иммунная система и реализация поведенческих стратегий размножения при паразитарных прессах//Журн. общей биологии. 2003. Т. 64, № 1. С. 23-44.
- Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих. Л.: Наука, 1988. 196 с.
- Новиков В.С., Смирнов В.С. Иммунофизиология экстремальных состояний. СПб.: Наука, 1995. 172 с.
- Румянцева Г.М., Чинкина О.В., Бежина Л.Н. Радиационные инциденты и психологическое здоровье. М.: ФГУЛГНЦССП, 2009. 288 с.
- Соколов В.Е. Химическая коммуникация млекопитающих. Успехи современной териологии. М.: Наука, 1977. С. 229-254.
- Суринов Б.П. Аверсивные, отталкивающие интактных особей, хемосигналы мышей при радиационном, токсическом поражениях и злокачественном росте//ДАН. 2007. Т. 414, № 4. С. 554-556.
- Суринов Б.П., Исаева В.Г. Иммуномодулирующие эффекты летучих выделений животных при пострадиационных иммунодефицитных состояниях//Радиац. биол. Радиоэкол. 2008. Т. 48, № 6. С. 665-670.
- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Духова Н.Н. Коммуникативное умножение вторичных нарушений показателей крови и иммунитета в группах интактных мышей, опосредованное летучими выделениями облученных особей//Радиац. биол. Радиоэкол. 2004. Т. 44, № 4. C. 387-391.
- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Духова Н.Н. Пострадиационные иммуносупрессирующие и аттрактивные летучие выделения: "эффект соседа (baystander effect)" или аллелопатия в группах животных//Докл. РАН. 2005. Т. 400, № 5. С. 711-713.
- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Карпова Н.А., Кулиш Ю.С. Иммуносупрессирующая активность летучих выделений стрессированных и облученных животных//Иммунология. 2001. № 5. С. 39-42.
- Суринов Б.П., Шпагин Д.В. Влияние облучения на обонятельную способность мышей-самцов различать хемосигналы интактных особей//Радиац. биол. Радиоэкол. 2007. Т. 47, № 1. С. 17-21.
- Шарецкий А.Н., Суринов Б.П., Абрамова М.Р. Иммуносупрессивная активность летучих компонентов мочи мышей, подвергнутых воздействию иммунодепрессантов//Иммунология. 2003. Т. 24, № 5. С. 269-272.
- Шарецкий А.Н., Суринов Б.П., Абрамова М.Р. Иммуносупрессивный эффект летучих выделений мышей, подвергавшихся воздействию солей кадмия, свинца и алюминия//Химическая и биологическая безопасность. 2008. Т. 37-38, № 1-2. С. 7-11.
- Beauchamp G.K., Yamazaki K. Chemical signallig in mice//Biochem. Soc. Trans. 2003. V. 31. P. 147-151.
- Hurst J.L., Beynon R.J. Scent wars: the chemobiology of competitive signaling in mice//Bioessays. 2004. V. 26. P. 1288-1289.
- Kavaliers M., Colwell D.D. Odours of parasitised males induce aversive response in female mice//Animal Behaviour. 1995. V. 50. P. 1161-1169.
- Novotny M., Soini H.A., Koyama S. et al. Chemical identification of MHC -influenced volatile compounds in mouse urine//J. Chem. Ecol. 2007. V. 33. P. 417-434.
- Penn D.J., Potts W.K. Chemical signals and parasite-mediated sexual selection//Trens Ecol. Evol. 1998. V. 13. C. 391-396.
- Schwende F.J., Gorgenson G.W., Novotny M. Possible chemical basis for histocompatibility-related mating preference in mice//J. Chem. Ecol. 1984. V. 10. P. 1603-1615.