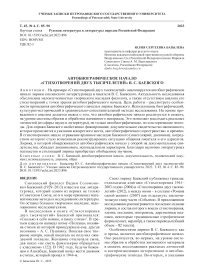Автобиографическое начало "Стихотворений двух тысячелетий" В. С. Баевского
Автор: Базылева Юлия Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 4 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
На примере «Стихотворений двух тысячелетий» анализируется автобиографическое начало лирики смоленского литературоведа и писателя В. С. Баевского. Актуальность исследования обусловлена малоизученностью творческого наследия филолога, а также отсутствием анализа его стихотворений с точки зрения автобиографического начала. Цель работы - рассмотреть особенности проявления автобиографического начала в лирике Баевского. Использованы биографический, культурно-исторический и сравнительно-сопоставительный методы исследования. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что автобиографическое начало реализуется в сюжете, на уровне системы образов и обработки жизненного материала. Это позволяет воссоздать реальных личностей (из сферы науки и литературы), не только автобиографические, но и исторические эпизоды. Для лирики Баевского свойственно фиксирование, документальное свидетельство написанного, которое проявляется в указании конкретного места, «автобиографического пространства» и времени. В стихотворениях нашло отражение архивное наследие Баевского (эпистолярий, дневники), посредством которого стало возможным реконструировать ситуацию общения писателя и его адресатов. Лирика, в которой обнаруживается автобиографическое начало с опорой на документальные свидетельства, обладает дневниковым, исповедальным характером. Благодаря наличию литературных подтекстов и стилизаций лирика приобретает обобщенное звучание.
В. с. баевский, автобиографическое начало, документальность, человеческий документ, исповедальность, дневник, образ
Короткий адрес: https://sciup.org/147240760
IDR: 147240760 | УДК: 82-3 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.896
Текст научной статьи Автобиографическое начало "Стихотворений двух тысячелетий" В. С. Баевского
Смоленский филолог Вадим Соломонович Баевский (1929–2013) известен как литературовед, который одним из первых не только в Советском Союзе, но и в мире применил математические методы к исследованию литературы. Он оставил большое творческое наследие, недооцененное исследователями.
В послесловии к книге «Стихотворения двух тысячелетий» Баевский признавался: «Сколько я себя помню, я пишу стихи»1. В третьем классе он написал поэму «Полтава», половина стихов из которой принадлежала ему, другая половина – А. С. Пушкину. Показав свое творение матери, юный писатель не получил ожидаемой похвалы. Женщина отшлепала сына, дав наказ «не сметь фамильярно обращаться с классиком» (122). В 1942 году, будучи беженцем в Ашхабаде, Баевский начал вести дневник в стихах, который пропал в 1944-м.
Свою лирику Баевский публиковал трижды: отдельными книгами «Стихотворения 1941– 2003 годов» (2004) и «Стихотворения двух тысячелетий» (2012), а между ними – в составе «Романа одной жизни» (2007) как отдельную, заключительную главу части «События». В предложенном исследовании рассматривается последнее издание лирики, в состав которого вошли стихотворения, элегии, послания, эпиграммы, дарственные надписи, некоторые традиционные строфические формы (сонет, верлибр), а также переводы (общий объем – 82 текста).
Особенностями лирики В. С. Баевского, как и прозы, является автобиографическое начало. Оно реализуется, во-первых, на уровне системы образов и обработки жизненного материала в сюжете, воссоздающих реальных личностей и воспроизводящих исторические и автобиографические эпизоды. Во-вторых, в указании конкретного места, «автобиографического пространства» и времени действия. Опираясь на исследование В. Дильтея, отметим, что автобиография представляет «осмысление человеком своего жизненного пути, получившее литературную форму выражения <…> Только оно делает возможным историческое видение» [2: 140]. Вслед за Г. И. Романовой одной из особенностей автобиографизма назовем «изображение процесса духовно-нравственного развития личности автора» [7: 195–196], проявляющееся в осмыслении прошлого. В-третьих, при обращении к документальным материалам как источнику фактуального повествования, представляющего «нарративную противоположность литературному вымыслу (“фикционального текста”)» [3: 32]. Опора на исторические факты и реалии - писательское кредо Баевского. Ученый признавался, что ручается за достоверность своих воспоминаний: «Я позволяю себе писать только на основе документов <…> – дневника и писем»2. Примечательно, что в эго-текстах Баевского раскрывается специфика историко-культурного контекста, оказывающего влияние на его творчество. Архивные материалы, представляющие «записи для себя», важны не только как источники автобиографических сведений (характеризующих автора и «его взаимоотношения с окружающим миром» [11: 4]), но и как доказательство «перевоплощения» жизненного материала, то есть «движение от дневника к мемуарам» [6: 267], представленным в виде мемуарно-автобиографического романа и лирики.
Написанным стихотворениям В. С. Баевский дает оценку «человеческого документа»: «Мои стихи имеют право на внимание как человеческий документ в понимании французских писателей-натуралистов, Золя и Гонкуров» (123). Мария Рубинс в книге «Русский Монпарнас» отмечает, что особенность «человеческого документа» в том, что он «сосредоточился на субъективном психологическом аспекте отдельной личности, на “здесь и сейчас” человеческих чувств и на основных экзистенциальных переживаниях» [8: 35].
***
Лирика Баевского концентрирует немало реальных деталей из жизни поэта и отчасти пересекается с его автобиографической прозой, в частности с «Романом одной жизни». Так, первое стихотворение «Надо мною небо и небо…» (июль 1941 года, Волга) впервые упомянуто в главе «Ржавый» романа. В основе стихотворения – реальный факт биографии филолога. Одиннадцатилетний Баевский (дворовое прозвище – Ржавый) придумывает стихотворение в эшелоне, увозя- щем людей из подвергшегося бомбежке Киева в эвакуацию через Волгу. Увиденная картина вызвала в душе Ржавого сильное впечатление, в результате которого и родилось стихотворение: «Сам того не понимая, Ржавый сочиняет стихи. Это не он придумывает, их сложила Волга»3. Образ Ржавого возникает в стихотворении «У всех пути в искусстве разны», в котором Баевский пытается определить свою литературную судьбу. Обратим внимание, датировка стихотворения «27 июня 1993, воскресенье, 0.23 мин» указывает на первую публикацию повести «Ржавый» в журнале «Край Смоленский»4. С момента этой публикации Баевский начинает осознавать себя как писателя. В стихотворении он пробует поставить и увидеть героя в разных исторических и литературных рядах мастеров слова: А. И. Полежаев, В. Н. Ажаев, К. Ф. Рылеев, Н. Н. Асеев, но приходит к выводу, что это невозможно. У каждого свой путь в литературе, потому что поэзия – всегда творческий поиск. Задаваясь вопросом: «Что ждет его на этом свете?» (37), он предполагает: «Уж верно не цветы, а плети» (37). Это говорит о том, что в роли писателя Баевский предчувствует свою отверженность.
Автобиографическое начало заметно в стихотворении «И все же иногда приходит грусть». В нем выражено сожаление о потерянном детстве, «расстрелянном порохом и сталью» (8). При этом через свою судьбу Баевский показывает судьбу всего народа, пережившего Великую Отечественную войну. Помимо личных переживаний он испытывает боль за всех, кому пришлось стать участниками этой войны: «…сердца теперь закалены как сталь» (8). В этом стихотворении Баевский близок позиции А. А. Ахматовой, которая в «Реквиеме» писала: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был»5. Весь XX век назван Баевским холодным и пустым, потому что жизнь «все отбирает, / ничего не давая взамен» (8). Это вызывает у писателя негодование, отсюда и призыв: «Пусть в агонии мир погибает / под громадой обрушенных стен» (8). Землю (в стихотворении – образ корабля) покинут люди (экипаж), и без населения, без столиц Земля будет вечно и свободно скитаться в «безбрежном пространстве» (9), подобно знаменитому призрачному «Летучему Голландцу». Последний образ – отсылка к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль».
Автобиографическое, личное начало задает тон в центральном, на наш взгляд, стихотворении «Старость? Время утрат». В своей жизни Баевский выделяет семь главных вех – эпох, трепетно хранящихся в его душе:
«Одесса, / она же эпоха папы с мамой и бабушкой. / Вторая мировая война. / Эпоха Пастернака. / Эпоха Бориса Яковлевича, / Соломона Абрамовича, / Лидии Яковлевны и / Юрия Михайловича. / Эпоха Давида Самойлова. / Эпоха Алика и Шуры. / Эпоха кафедры истории и теории литературы» (92).
Первая – эпоха папы с мамой и бабушкой – довоенное детство в Одессе. Вторая эпоха связана с увиденным и пережитым в начале Второй мировой войны, с дальнейшей эвакуацией в Ашхабад.
Третья эпоха связана с судьбоносным знакомством Баевского с Б. Л. Пастернаком. В журнале «Знамя» он прочел подборку стихотворений Пастернака, которые произвели на него такое глубокое впечатление, что он написал статью об этих стихах. Не веря в возможность ее публикации, копию он отослал самому поэту, а через несколько дней неожиданно получил ответ. Через два года Пастернаку присудили Нобелевскую премию, что «вызвало злобную травлю великого писателя со стороны руководства компартии и государства, литераторов и оболваненных обывателей» [1: 62– 63]. Баевский, беспокоясь за духовное состояние писателя, решил поддержать его, отправившись в Переделкино. Творческое наследие Пастернака находилось в центре научных интересов Баевского: он рассматривал фундаментальные вопросы поэтической системы, отказался от ранее установленных положений (например, «выступил против представления о Пастернаке как о поэте случайных ассоциаций»6).
Четвертая эпоха обозначена именами четырех ученых – Б. Я. Бухштаба, С. А. Рейсера, Л. Я. Гинзбург и Ю. М. Лотмана. Трое первых принадлежат к поколению «младших формалистов» (русскую формальную школу Баевский ценил необыкновенно высоко, считал себя ее последователем), Лотман – ярчайший представитель русского структурализма. Каждому из упомянутых персон Баевский посвятил отдельный очерк в «Романе…», где подробно изложил историю своего знакомства, дружбы и сотрудничества.
Пятая – эпоха Д. С. Самойлова. Она ознаменована годами дружбы и тесного сотрудничества ученого с поэтом, в результате чего осталось богатое эпистолярное наследие (фрагментарно отраженное в «Романе…»). Заметим, что в ходе переписки с Самойловым рождались целые стихотворения. Так, «Рондо Самойлову в ответ на его сонет» написано в качестве ответа на письмо с сонетом Самойлова. Баевский «принял решение ответить не сонетом, а стихотворением другой формы, и выбрал рондо»7, отметив в своем дневнике: «Я почти уверен, что на мое рондо Самойлов ответит триолетом»8. Правда, Самойлов вновь прислал ученому сонет, а Баевскому в ответ пришлось писать триолет. Так появился следующий за «Рондо…» «Триолет Давиду Самойлову».
Шестая – эпоха Алика (А. Л. Дорфман) и Шуры (А. М. Шендерович). Это эпоха друзей детства Баевского (писатель познакомился с ними в эвакуации в Ашхабаде, когда ему было 12 лет), их государства ШАД (Шура + Алик + Дима). Никто из них тогда и подумать не мог, что «мы трое рядом пройдем всю дорогу сквозь этот негостеприимный двадцатый <…> Алик похоронит Шуру, а я похороню Алика»9.
Седьмая – эпоха кафедры истории и теории литературы. С 1989 года Баевский не просто возглавлял кафедру истории и теории литературы в Смоленском государственном педагогическом институте, он фактически ее создал: весь преподавательский состав составляли ученики Баевского. Отметим, что стихотворение имеет посвящение – И. В. Романовой – ученице Баевского. По воспоминаниям Романовой, профессор вручил ей стихотворение в сложный период ее жизни (в 2001 году после тяжелой болезни не стало ее отца), от руки подписав посвящение, с которым в дальнейшем стихотворение и публиковалось.
Эпохи, названные именами реальных людей, с которыми Баевский был знаком, лишь однажды писатель соотносит с историческим событием – Второй мировой войной. В остальных пяти случаях эпохи связываются в его сознании с людьми, еще один случай – с кафедрой, но она также связана с людьми, в первую очередь его учениками. На основе этого можно предположить, что семантическая валентность лексемы «эпоха» сосредоточена в антропологической проекции и формирует идеологему «эпоха – человек», которая реализуется в образах и сюжете верлибра. Заданные Баевским образы и сюжет раскрывают эпохальную значимость и многомерность человеческой личности и жизни.
Обратим внимание на возникший в стихотворении образ памяти: «старое-старое запущенное кладбище. Скудельница. Погост» (92). Все эти образы – синоним одного – место захоронения воспоминаний писателя. В этом определении содержится аллюзия на знаменитое стихотворение Б. Л. Пастернака «Душа моя, печальница…», где душа предстает в таких же кладбищенских образах, так же названа «скудельницей».
Воспоминания составляют не только люди и события, но и географические объекты – «автобиографическое» пространство, где разворачиваются события жизни Баевского:
«Сан-Франциско / С его Мостом Золотых Ворот. / Киев / С его Золотыми Воротами. / Тар ту – по самой сути своего имени город утрат. / Дрезден / с его картинной галереей / и долиной, где Эльба шумит. / Чистяково / с его терриконами и непролазной грязью» (91–92).
Киев сохранился в памяти писателя как город, в который он вернулся после войны и поступил в институт; Чистяково – шахтерский поселок, в который попал по распределению после окончания университета и где отработал школьным учителем одиннадцать лет. Об этом периоде написана повесть Баевского «Центральный поселок» (2008 год). Тарту – город Лотмана, где Баевский защитил докторскую диссертацию; Сан-Франциско, Дрезден, Нью-Йорк, Париж и Санкт-Петербург – города, куда Баевский вместе с женой Э. М. Береговской приезжал на научные симпозиумы и конференции, а затем, пользуясь возможностью, осматривал местные достопримечательности. Помимо этого, в Петербурге долгое время жила дочь Баевского до отъезда в Америку, в Нью-Йорке – внук. Санкт-Петербург – город Б. Я. Бухштаба, С. А. Рейсера, Л. Я. Гинзбург.
Таким образом, выделенные эпохи и географические объекты отображают знаковые моменты из жизни автора, связанные с местами и людьми, историческими событиями, которые в совокупности определили судьбу Баевского.
В «Стихотворениях…» часто встречаются имена представителей литературы и науки, включенные не только в контекст уникальной судьбы Баевского, но и в контекст советской реальности. Мы упоминали, что Баевский являлся последователем идей формальной школы. 1980-е годы были сложными для формалистов, они, как отмечает Д. М. Сегал, оказались «в политической оппозиции к новой власти» [10: 78]. Подход к исследованию языка как семиотической системы в нашей стране критиковался за формализм, а термин «семиотика» заменялся понятием «вторичные моделирующие системы» [5: 206], поэтому не получал идеологической поддержки и одобрения. Баевского такая ситуация не устраивала, он был убежден, «что наука – это материк истинной демократии, свободы»10. Формалисты «превыше знаний и регалий» (66), по мнению Баевского, ставили «души и умы» (66). Обратим внимание на две последние строки первой строфы: «В одних журналах нас ругали, / Упреки те же слышим мы» (66) – повтор стихотворной строки из стихотворения «Дельвигу» А. С. Пушкина. Для А. А. Дельвига литературное единомыслие с Пушкиным обернулось тем, что в печати ходили слухи, будто стихи Дельвига – мистификация (половина принадлежит А. С. Пушкину, вторая половина – Е. А. Баратын- скому). Баевский лишь надеется, что «Завзятые восьмидесятые / Авось не доконают нас» (66).
Последнее десятилетие существования советской власти Баевский характеризует как «завзятые восьмидесятые». Этот образ возникает в четырех идущих друг за другом стихотворениях (три из них написаны 26 мая 1981 года). Связан он в первую очередь с усугубившимся космополитизмом в научных кругах, цензурой, невозможностью свободно заниматься исследовательской деятельностью, о чем Баевский рассказывал коллегам-ученым. В стихотворении «З. Минц, М. Лотману» он пишет: «Найдутся судьи непредвзятые / И разберут, страшней года какие: / Сороковые роковые / Или завзятые восьмидесятые» (63). «Завзятые восьмидесятые» сравниваются с «роковыми сороковыми» – образом, впервые возникшим в стихотворении «Сороковые» Д. С. Самойлова. Восьмидесятые выражают иное, отличное от военного, «страшное» сороковых. Баевский предлагает осмыслить, «страшней года какие», подразумевая экзистенциальное переживание современности.
Главная задача цензуры сводилась не только к устрашению пишущих, но и к «воспитанию писателей-конформистов и изоляции неугодных власти авторов» [4: 48]. Два сонета, объединенные под названием «Близнецы», написаны в 1993 году как зафиксированное свидетельство эпохи – указаны датировка и время («5 февраля 1993 23 часа 53 минуты» (34); «6 февраля 1993, суббота, 1.42 ночи» (35)). Они провозглашают отмену цензуры и свободу печати: «Но сгинули мучители-невежды. / Любовь, душа, доверие, надежды, / Мечты, и самиздат, и тамиздат / На полках тесно стали в строгий ряд» (35). Это событие стало торжеством ученого и писателя.
Ряд стихотворений отражает реакцию Баевского на литературные события. Так, в стихотворении «Тропой, проселком, большой дорогой», написанном 7 февраля 1988 года, Баевский запечатлевает торжественное для литературы страны, для себя как исследователя творчества Б. Л. Пастернака событие – первую публикацию в СССР романа «Доктор Живаго», для которого «нашлась наконец бумага» (20). Стихотворение «Знамена потеряны нами…» (15 августа 1946 года), воспроизводящее настроение «мировой скорби», характерное для мироощущения романтиков, навеяно Постановлением «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (вышло 14 августа 1946 года). Оно способствовало исключению А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко из Союза писателей СССР: отмечалось, что Зощенко «специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности» [9: 273], а Ахматова названа «представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии» [9: 622].
В стихотворениях последних десятилетий усиливается мотив одиночества героя Баевского, связанный с уходом близких друзей, коллег, членов семьи: «Один за другим, кто старше, кто моложе, гибнут друзья. / Иногда и похоронить нельзя. / Другой раз хороню. И иду вперед» (44). В стихотворении «Ни бороды, ни зубов, ни лысины» поэт ощущает не только то, что остался один, а то, что находится на пороге смерти. Экзистенциальность ситуации усиливается мистическим страхом, который переживает герой, видя гостью, заглядывающую ему в лицо. Присутствие потусторонней силы в образе гостьи напоминает о беспомощности человека перед предстоящей неизбежностью кончины и последующим Божьим судом. И на этой границе жизни и смерти герой, представленный в образе школьника, просит «приготовить еще раз уроки» (23), чтобы Бог, «Радость моя / Самый строгий и милосердный / Наш Учитель и Судия» (23), не поставил ему двойку.
Авторское мировоззрение в конце жизни приобретает исповедальность, выражающуюся в обращении к Богу: «И, представ перед ликом Бога / С простыми и мудрыми словами, / Ждать спокойно Его суда» (90). Процитированные строки взяты из стихотворения «Мои читатели», написанного по «бытовому» поводу. Коллеги и ученики Баевского часто брали из его личной библиотеки книги и не возвращали. Тогда он на дверях кафедры повесил листок с этим стихотворением, варьирующим знаменитое стихотворение «Мои читатели» Н. Гумилева. Лирический финал переводит шутливый текст о невозвращенных книгах в регистр памяти культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Являясь непосредственным свидетелем событий исторического, литературного масштаба, Баевский создает лирические произведения, основанные на реальных фактах. Так, функцию документальных свидетельств в «Стихотворениях…» выполняют посвящения, точные датировки, указания места, упоминания невыдуманных исторических событий, явлений общественной и культурной жизни XX–XXI веков, а также обращения к эпистолярному архиву и дневниковым записям. Автор рассказывает о проблемах, с которыми он и его поколение столкнулись в реальности: война, эвакуация, перестройка, цензура. Биография поэта находит отражение не только в упоминании пережитых событий, но и в ономастическом пространстве его поэтических произведений. Имена ученых (З. Г. Минц, Ю. М. Лотман) и писателей (Б. Л. Пастернак, Д. С. Самойлов) представляют собой «культурный контекст» современной Баевскому эпохи, имеют особое значение в его жизни. В лирике рассказ о своей жизни приобретает обобщенное, универсальное звучание благодаря литературным подтекстам (Б. Л. Пастернак, Н. С. Гумилев) и стилизациям (М. Ю. Лермонтов).
Реальная биография поэта и литературоведа «вычерчивается» в его поэтическом творчестве через такие географические маркеры, как Киев, Одесса, Тарту, Смоленск. Писатель наделяет своего героя не только биографическими данными, но и личным духовным опытом, что придает лирике дневниковый, исповедальный характер. Символично название, подобранное Баевским для своей книги стихотворений. Слово «тысячелетия» заставляет задуматься об историческом процессе и памяти культуры, позволяет писателю осмыслить прошлое, показать его связь с настоящим благодаря культурным знакам, прежде всего из сферы литературы.
Список литературы Автобиографическое начало "Стихотворений двух тысячелетий" В. С. Баевского
- Баевский В. С. Пастернак: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М.: Изд-во МГУ, 1997. 112 с.
- Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 135-152.
- Каспэ И. Когда говорят вещи: документ и документность в русской литературе 2000-х. М.: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2010. 48 с.
- Кустова А. В. Советская цензура детской литературы на примере произведений К. И. Чуковского // Вестник Московского университета печати. 2005. № 8. С. 45-48.
- Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Акад. проект, 2002. 542 с.
- Павлова Л. В., Романова И. В. Литературная и внелитературная реальность «Романа одной жизни» Вадима Баевского // Литературные знакомства. 2020. № 48. С. 255-268.
- Романова Г. И. Автобиографические жанры // Литературная учеба. 2003. № 6. С. 195-199.
- Рубинс М. Русский Монпарнас: парижская проза 1920-1930-х годов в контексте транснационального модернизма. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 325 с.
- Сарнов Б. Сталин и писатели. Книга первая. М.: Эксмо, 2009. 832 с.
- Сегал Д. М. Пути и вехи: русское литературоведение в двадцатом веке. М.: Водолей, 2011. 207 с.
- Rutz A., Elit S., Kraft S. Egodocumenten. A virtual conversation with Rudolf M. Dekker // Zeitenblicke. 2002. Vol. 1, № 2. P. 1-28.