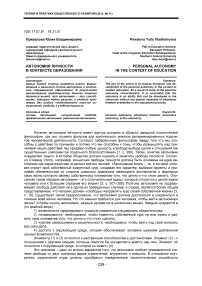Автономия личности в контексте образования
Автор: Привалова Юлия Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является анализ формирования и развития личной автономии в контексте современного образования. В результате рассмотрения характеристик данного понятия делается вывод, что автономия – это способность, которую можно развить в учебной аудитории без особой необходимости наличия ситуативной свободы в учебном процессе.
Личная автономия, ситуативная свобода, превентивная автономия, реактивная автономия
Короткий адрес: https://sciup.org/14934936
IDR: 14934936 | УДК: 17.07.61
Текст научной статьи Автономия личности в контексте образования
Summary: The aim of the article is to analyze formation and development of the personal autonomy in the context of modern education. As a result of study of the personal autonomy characteristics, it is concluded that the autonomy is an ability that can be developed in the classroom without any special necessity of situational freedom availability in the educational process.
Понятие автономии личности имеет долгую историю в области западной политической философии, где оно служило фокусом для критического анализа детерминированных подсчетов человеческой деятельности. Согласно либеральным философам, ввиду того что мы способны к действию по причинам и потому что мы способны к тому, чтобы размышлять над причинами наших действий, мы придаем особую ценность «свободе выбора целей и отношений как существенных компонентов отдельного благосостояния» [1, с. 369]. Также, понятие автономии определяет смысл, в котором общество должно оценить и защитить свободу личности. Согласно Стивену Уоллу, например, концепция свободы личности должна быть основана на идее автономии как характеристике отдельно взятых жизней: «Автономная жизнь – та, в которой человек строит свой собственный жизненный курс, создавая его характер, выбирая проекты и принимая обязательства со стороны широкого диапазона имеющихся альтернатив и формируя свою жизнь согласно своему собственному пониманию того, что ценно и что стоит делать. Описанная таким образом автономия – это отличительный идеал, который относится к целой жизни человека или к большим отрезкам его жизни» [2, с. 307–308]. Поэтому автономия не подразумевает свободу действия ни в одном из приведенных случаев, а скорее, является более общим представлением, что человек должен «свободно направлять курс своей собственной жизни» [3, с. 19]. Существует также предположение, что автономия должна достигаться и сохраняться в течение всей жизни человека. Но что именно требуется для человека, чтобы вести автономную жизнь? «Чтобы понять автономию, каждый нуждается в нескольких вещах. Каждый нуждается в (по крайней мере):
-
1) возможности сформировать сложные намерения и выдержать обязательства;
-
2) независимости, необходимой, чтобы наметить собственный курс на всю жизнь и развить свое понимание того, что ценно и что стоит сделать;
-
3) чувстве самосознания и решительности, необходимых, чтобы взять под свой контроль все свои дела;
-
4) доступе к окружающей среде, которая обеспечивает человека широким диапазоном ценных возможностей.
Элементы (1) и (3) относятся к умственным способностям и достоинствам. Элемент (2) – к отношениям с другими людьми, которые помогли бы осуществить власть над ним. Элемент (4) относится к окружающей среде, в которой он живет» [4].
Это описание – один из многих вариантов того, что автономия требует определенной степени свободы от двух основных видов ограничений: внутренних и внешних. В отношении внутренних ограничений люди должны приобрести определенные психологические способности
(Элементы 1 и 3). В отношении внешних ограничений должна существовать определенная степень свободы от руководства другими людьми (Элемент 2) и окружающая среда, в которой доступны значимые варианты (Элемент 4). Личная автономия, в этом смысле, является признаком социально конституированного человека. Люди должны стремиться вести автономную жизнь, а общество – уважать свободу, которую требует такая жизнь. С либеральной точки зрения, хорошее общество – то, в котором люди борются и за свою собственную автономию и за автономию других. В кантианских терминах это общество, в котором люди относятся к себе и к другим как к целям, и никогда как к средствам для достижения своих собственных целей или к целям общества (независимо от того, насколько хорошими могут быть эти цели) [5].
Такое понимание автономии личности является ключевым для рассмотрения автономии в контексте образования, подразумевает необходимость учиться быть автономными и дает толчок целому ряду вопросов. При каких условиях образования лучше всего развиваются способности вести автономную жизнь? Могут ли они быть развитыми в спонсируемых государством образовательных учреждениях или они лучше развиваются естественным путем, как предположил Руссо, через процессы самонаправленного исследования и открытия? Опираясь на то, что образовательные учреждения действительно имеют значение, каков соответствующий баланс между обучением (развитием соответствующих мощностей) и ситуативной свободой (отсутствие руководства другими людьми в процессе обучения)? И, предполагая, что студенты испытывают недостаток в компетентности в отношении содержания своего изучения, почти по определению, до какой степени другое руководство может быть оправдано в интересах их автономии на долгосрочную перспективу?
Многие ученые уже признали, что способность студентов к автономии не может быть принята как данность. Дэвид Литтл, например, начал свой широко цитируемый счет того, «чем автономия не является» заявлением, что «автономия не является синонимом самообучения», «она не ограничена обучением без преподавателя», «она не влечет отказ от ответственности со стороны преподавателя» [6, с. 7]. Проблема, к которой адресованы эти заявления, является практической для многих преподавателей: как может теория об автономии в обучении, которая рассматривает преподавание в аудитории как ограничение ситуативной свободы, требующейся для автономии, быть уместной для преподавателей в аудитории? То, чему мы стали свидетелями в последние годы, – это развитие более приемлемой трактовки автономии с точки зрения преподавателя, которая основывается на предположении, что автономия – это способность, которую можно развить в аудитории без особой необходимости наличия ситуативной свободы в учебном процессе.
Данную идею подтверждает теория, разработанная Уильямом Литтлвудом, который предложил внести различие между «превентивной» и «реактивной» автономией, основанной на двух уровнях саморегуляции, первый из которых «регулирует руководство деятельности так же, как и саму деятельность», в то время как второй «регулирует деятельность, как только было установлено направление деятельности» [7, с. 75].
У. Литтлвуд также комментирует, что, хотя превентивная автономия для многих авторов – единственный вид, который учитывается, реактивная автономия может быть как ступенью на пути к превентивной автономии, так самоцелью. Понятие реактивной автономии полезно в образовательных контекстах для разграничения способности: «Как только направление намечено, оно позволяет студентам использовать свои ресурсы автономно для достижения цели» [8]. Превентивная автономия может быть понята как контроль над методами и содержанием изучения, в то время как реактивная автономия подразумевает контроль над одними только методами. Определение направления для изучения является, другими словами, в значительной степени вопросом определения своих собственных целей и содержания изучения. В этом смысле «реактивная автономия» У. Литтлвуда кодирует форму, в которой понятие автономии в изучении является самым уместным с точки зрения преподавателя в аудитории.
С нашей точки зрения, в контексте образования автономия личности может быть сформирована только на основе сложившейся превентивной автономии. Конечно, в случае реактивной автономии, представляется, что, по мере того как другие определяют направление изучения, они также указывают направление жизни студентов. Нельзя сказать, что способности, связанные с реактивной автономией, не имеют ценности. Они не связаны с более широким контекстом жизни студентов. Однако, устанавливая свои собственные направления в изучении, определяя его цели и содержание, превентивные автономные студенты уже составляют свой собственный курс жизни.
Студенты таким образом не просто изучают что-то – они чувствуют, что способности, которые развивают, помогут им стать более автономными в жизни. Кроме того, они чувствуют свою автономность относительно полного руководства приобретения знаний – что большая часть того, что они делают в процессе обучения, является следствием выбора и решений, которые они принимают сами. Эти два аспекта автономии также соответствуют измерениям способности и ситуативной свободы. Другими словами, если они рассматривают свое приобретение знаний как неотъемлемую часть своей жизни, для них важно, чтобы приобретенные знания помогли им в благоустройстве своей жизни.
Ссылки:
-
1. Raz J. The Morality of Freedom. Oxford, 1986. 435 p.
-
2. Wall S. Freedom as a political ideal // Autonomy / ed. by Paul E.F., Miller F.D., Paul J. Cambridge, 2003. P. 307–334.
-
3. Young R. Personal Autonomy: Beyond Negative and Positive Liberty. London, 1986. 123 p.
-
4. Wall S. Op. cit. P. 308.
-
5. Guyer P. Kant on the theory and practice of autonomy // Autonomy / ed. by Paul E.F., Miller F.D., Paul J. Cambridge, 2003. P. 70–98.
-
6. Little D. Autonomy in language learning // Autonomy in Language Learning / ed. by Gathercole I. London, 1990. P. 7–15.
-
7. Littlewood W. Defining and developing autonomy in East Asian contexts // Applied Linguistics. 1999. 20 (1). P. 71–94.
-
8. Ibid. P. 75.