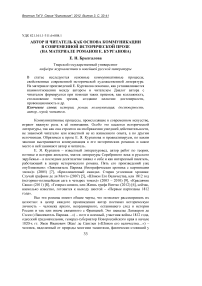Автор и читатель как основа коммуникации в современной исторической прозе (на материале романов Е. Курганова)
Автор: Брызгалова Елена Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основные коммуникативные процессы, свойственные современной исторической художественной литературе. На материале произведений Е. Курганова показано, как устанавливаются взаимоотношения между автором и читателем Диалог автора с читателем формируется при помощи таких приемов, как коллажность, столкновение точек зрения, создание иллюзии достоверности, провокационность и др.
История, роман, коммуникация, достоверность, автор, герой, читатель
Короткий адрес: https://sciup.org/146121019
IDR: 146121019 | УДК: 821.161.1-311.6+808.1
Текст научной статьи Автор и читатель как основа коммуникации в современной исторической прозе (на материале романов Е. Курганова)
Коммуникативные процессы, происходящие в современном искусстве, играют важную роль в её понимании. Особо это касается исторической литературы, так как она строится на изображении ушедшей действительности, не знакомой читателю или известной не из жизненного опыта, а по другим источникам. Обратимся к прозе Е. Я. Курганова и проанализируем, по каким законам выстраивается коммуникация в его исторических романах и какое место в ней занимают автор и читатель.
Е. Я. Курганов – известный литературовед, автор работ по теории, поэтике и истории анекдота, знаток литературы Серебряного века и русского зарубежья – в последнее десятилетие заявил о себе и как интересный писатель, работающий в жанре исторического романа. Пять его произведений уже опубликовано: «Завоеватель Парижа (биографическая хроника с картинками эпохи)» (2005) [7], «Бриллиантовый скандал. Старая уголовная хроника:
Случай графини де ля Мотт» (2007) [5], «Шпион Его Величества, или 1812 год (историко-полицейская сага в четырех томах)» (2003 – 2010) [9], «Красавчик Саша» (2011) [8], «Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта» (2012) [6], сейчас, насколько известно, готовится к выходу шестой – «Первые партизаны 1812 года».
Все эти романы имеют общие черты, что позволяет рассматривать их целостно: в центр каждого произведения автор поставил историческую личность – человека яркого, неординарного, оставившего след в истории России и так или иначе связанного с Францией. Это шевалье Ланжерон де Сэсси («Завоеватель Парижа…») – поэт и военный, участник войны 1812 года, одесский градоначальник, генерал-губернатор Новороссийского края в начале 1820-х гг. Яков Иванович /Жак/ де Санглен («Шпион его величества…») – человек, наделенный от природы многими талантами, фактически стоявший у истоков создания русской военной разведки. Граф Иван Осипович Витт («Генерал-шпион…») – военный, участник войны 1812 г. По словам автора, он «представлял собой личную тайную полицию императора Александра Первого, и эту свою функцию он, в общем-то, сохранил и при Николае Первом» [6]. Графиня Жанна де ля Мотт («Бриллиантовый скандал…») – авантюристка и мошенница, участвовавшая в похищении бриллиантового ожерелья в самом конце ХYIII в., что в какой-то мере способствовало началу революции в 1789 г. и падению монархии во Франции. Александр Стависский («Красавчик Саша») – аферист, потрясший в первой половине 1930-х гг. основы Третьей республики во Франции «самым громким, самым выдающимся скандалом межвоенного Парижа» [8, с. 4] настолько, что отзвуки его слышны, по утверждению автора, до сих пор.
Кроме того, романы объединены и общим художественным пространством. Франция и Россия переплетаются в судьбах героев: Ланжерон и Санглен, как бы сейчас сказали, этнические французы, прожившие большую часть сознательной жизни в России и служившие ей верой и правдой. Графиня де ля Мотт, спасаясь от преследователей, оказывается в России и здесь доживает свой век, а красавчик Саша – российский эмигрант, связавший свою судьбу с Францией. В «Шпионе Его Величества…» и «Генерале-шпионе» речь идет о войне 1812 года, когда Наполеон пытался завоевать нашу страну. И военная разведка, которую возглавил Санглен, была создана для отражения тайных атак французских агентов. А Иван Витт, прибегая к современным выражениям, был тайным агентом и накануне войны предоставил русскому командованию очень важные документы.
Следует отметить, что вся историческая проза Е. Курганова строится на особых взаимоотношениях автора и читателя, и без их учета невозможно ни понять авторский замысел, ни «прочесть» смысл рассказанных историй.
Взглянем на любое художественное произведение как на пример особой коммуникации, а на автора и читателя – как на коммуникантов, участвующих в общении. Доли каждого из них в этом процессе никогда не будут равными, так как автор создает текст, а читатель его как бы «поглощает» – осваивает и по мере развития этого глубоко интимного действа адаптирует к собственным чувствам, эмоциям, переживаниям. Результатом этого во многом неосознанного процесса для него становится формулировка «нравится/не нравится», и ощущение внутренней близости к прочитанному или неприятия его.
Не будем углубляться в психологическую составляющую коммуникативных процессов, свойственных современной литературе, – это совершенно другой аспект исследования, не «измеряющийся» в литературоведческих категориях. Обратимся именно к литературоведению и постараемся определить основные «параметры», позволяющие увидеть, как автор и читатель вовлекаются в общий поток коммуникации.
Отличительной чертой коммуникативности исторической прозы, по нашему глубокому убеждению, является интерес к миру прошлого, уже ушедшего и потому притягательного для читателя, которому хочется узнать о том, «что было» и «как было». При этом у читателя почти всегда есть собственные представления о той эпохе, о которой он читает. На столкновении собственных и авторских знаний строится еще один эфемерный, но очень важный для данной разновидности художественной литературы аспект: «верю/не верю». Для писателя-историка очень важно, чтобы читатель поверил и принял его видение описанных событий. Поэтому в историческом повествовании соединение документальной основы и художественного вымысла столь значимо.
Коммуникативность в романах Е. Курганова основана на нескольких общих принципах. Начнем с названий романов. Кроме «Красавчика Саши», все они довольно многословны и содержат «зерно» объяснения с читателем. Так, название рассказа о краже королевского ожерелья незадолго до краха французского королевства («Бриллиантовый скандал…») уточняется указанием на принцип изображения – хроникальность и на главную героиню – графиню де ля Мотт. Рассказ о жизни Ланжерона («Завоеватель Парижа…») связывает судьбу героя с эпохой («биографическая хроника с картинками эпохи»). «Генерал-шпион» имеет второе название, указывающее на приоритет судьбы героя над событиями («Жизнь графа Витта»). Но эта составляющая несколько приглушается авторским решением объединить данные тексты в цикл «забытые генералы 1812 года» [6]. Другой шпион, Жак де Санглен, предстает перед читателем в «историко-полицейской саге в четырех томах» [9], а второе название опять же соотносит читателя с одним из важнейших в русской истории событий – с войной 1812 г. Таким образом, три романа из четырех соотнесены через судьбы героев (напомним: реальных людей, действительно участвовавших в реальных событиях) с Отечественной войной 1812 года, о которой читатель так или иначе наслышан, так как благодаря обилию научных, документальных, литературных, кинематографических и др. источников у каждого из нас сложилось определенное представление об этом событии. Романы Е. Курганова во многом дополняют наши представления о той эпохе и об известных исторических деятелях, а в чем-то их опровергают [1; 2; 3; 11], тем самым подталкивая читателя к дискуссии и активизируя принцип «верю/не верю».
Еще одна характерная черта – установка на хроникальность изображения, что в 2 случаях манифестируется в названии и во всех без исключения романах претворяется в тексте. Таким образом, можно говорить об одном из общих принципов изображения в романах Е. Курганова, а именно о преобладании временной последовательности в изображении событий и о погруженности судьбы героя в поток истории. Другая сторона хроникальности – фрагментарность как возможность выделить наиболее яркие моменты – также свойственна данной исторической прозе.
Е. Курганов создал собственный тип исторического произведения, основанный на очень прочном документальном фундаменте, в нем и вымысел имеет форму документа. Именно благодаря этому во всех романах писателя сформировалась особая модель коммуникации, вовлекающей читателя в процесс сотворчества, где отношения «дающего» и «внимающего» сведены к минимуму и заменены почти равноправными. А целью всего этого становится создание таких коммуникативных условий, при которых читатель ощущает себя не пассивным наблюдателем, а соучастником происходящих событий.
Каковы же параметры этой коммуникации? Прежде всего, ее отличает постоянное стремление автора убедить читателя в достоверности, что вполне закономерно, если учесть ту серьезную документальную основу, на которой выстроено каждое произведение. Но при этом автору приходится напоминать читателю и о художественной составляющей текста и находить некое равновесие между правдой и вымыслом.
Для этой цели он использует разные приемы. Один из основных -предупреждение читателя о правдивости изображения. Сразу после названия «Бриллиантового скандала» читаем: «Исторический роман, правдивый , но составленный из целиком вымышленных документов » [5, с. 3] (здесь и далее выделено мной - Е. Б. ). В самом начале «Шпиона.» автор пишет: «Практически все описанные события имели место, а если не имели, то вполне могли бы иметь» [9]. В небольшой авторской справке, предваряющей повествование в «Генерале-шпионе», читаем: «В нижеследующем повествовании отсутствуют вымышленные факты, но зато, наряду с реальными, присутствуют и вымышленные документы, впрочем, вполне достоверные» [6]. Во втором томе «шпионско-полицейской саги» речь идет о «как будто нереальном , но при этом абсолютно достоверном » полете на воздушном шаре [9].
В авторских замечаниях, предваряющих повествование, используются слова правда («Все - чистая правда » [8, с. 4]), реальный, подлинный («Подлинный секретный дневник военного советника Якова Ивановича де Санглена» [9]; « Подлинная хроника жизни великого афериста» [8, с. 46]). Утверждается реальность всех (или почти всех) действующих лиц: «Все, без исключения, персонажи - вплоть до самых эпизодических, фигурирующих в настоящем повествовании, реальные исторические лица» [9]; «В книге нет. выдуманных персонажей…» [8, с. 4]; «Сами же факты ни в коей мере не изменялись . и не деформировались. Увы, так и было» [9].
При этом автор старается «оговорить» правила построения повествования - он определяет свои романы как реконструкции, выполненные «строго по источникам» [9]: «Это - книга-реконструкция.» [9]; «Так что предлагаемая мною реконструкция, думаю, вполне оправданна» [8, с. 4]. Итак, уже в самом начале текста, практически сразу после названия, читателю дается установка на восприятие дальнейшего изображения как реальности, но реальности гипотетической, которая если и не была, то могла быть. Другими словами, нам дана авторская установка на восприятие изображения, с одной стороны, как реально случившегося, а с другой - как возможно происходящего. И читатель должен или принять авторское видение событий, или отвергнуть (тот же принцип «верю/не верю»).
По мере развития сюжета в каждом из романов изображение усложняется, становится все более разветвленным, рассчитанным на полное погружение в авторскую модель реальности: мы вчитываемся в документы ( достоверные , но придуманные ), разгадываем тайны, а главное, приближаемся к герою и воспринимаем его уже не сквозь годы или столетия, а так, будто он рядом. Но это ощущение близости обманчиво: роман заканчивается, а многие загадки так и остаются неразгаданными, и герои так и уходят, оставаясь для читателя до конца не проясненными. Это общее для всех романов Е.
Курганова условие общения с читателем, который, по мысли автора, должен не просто «поглощать» продукт авторского труда, но создавать собственный, основанный на своем «прочтении» описанных событий.
Поэтому во всех произведениях дана установка на полифонизм восприятия происходящего и полностью отсутствует авторский диктат. Читателю предлагается самому разобраться в калейдоскопе разнообразных документов и свидетельств участников событий. Данный принцип подачи материала можно назвать коллажностью [4] , и в романах «Бриллиантовый скандал…» и «Красавчик Саша» он становится определяющим. Оба произведения представляют собой массу отрывков из мемуаров, записок, протоколов допросов участников похищения ожерелья («Бриллиантовый скандал…»), газетных публикаций, свидетельств современников, расследовательских документов и др. («Красавчик Саша»). Столь сложная организация текста требует от автора большого мастерства, так как необходимо создать единое целое и идеально подогнать друг к другу все довольно разнородные составляющие. С другой стороны, подобная конструкция изначально создает ощущение вариативности восприятия и ставит своей целью озадачить читателя: может быть, так и было, а может, и нет. Ему приходится самому разбираться в потоке представленной информации и решать, во что верить, а во что нет. Таким образом, коммуникативное начало в художественном тексте становится доминирующим.
Более того, фрагментарность, отрывочность оставляет «зазоры» для читательских представлений о том, как все было «на самом деле». А это уже выводит его на уровень создания новых смыслов, зависящих и от личностных качеств самого читателя, и от целого комплекса сопутствующих условий (образование, жизненный опыт, доминирующие в обществе представления о дозволенном и недозволенном и т. д.).
Так, например, роман «Красавчик Саша» представляет собой очень сложное единство: он состоит из фрагментов различных документальных материалов. Среди них выделяются дневники главного героя Александра Стависского («Пролог» [8, с. 5–32]), его жены («Арлетт Стависская (Симон). Мой американский дневник (Отрывки)» [8, с. 200–206]), очерки («Очерк, созданный на основе фактов и некоторых вполне достоверных домыслов» [8, с. 33]; «Полицейский очерк» [8, с. 163], «Набросок очерка, чудом сохранившийся, из цикла “Парижские рассказы”» Баб-Эля (И. Бабеля) [8, с. 243–246]), два досье, собранные «неким Ж. С.» [8, с. 212], тоже состоящие из фрагментов документов, комментариев, справок и др. Довольно часто в повествовании используются письма («Письма Жана Кьяппа» [8, с. 161–163], «Прощальное письмо Александра Стависского» [8, с. 198–199]), заметки («Криминологические заметки» [8, с. 165], «Заметка, запрещенная цензурой» [8, с. 177, 180], «Поздние разрозненные заметки» [8, с. 182–198], «Пристрастные заметки о совсем недавнем прошлом» [8, с. 220–223]), отрывки из мемуаров («Мемуары парфюмера» [8, с. 206–213]) и др.
Важной составляющей повествования оказываются материалы «из редакционного портфеля газеты “Последние новости”» [8, с. 213] и представляющие собой отклики на смерть героя: «театральная хроника» [8, с.
213–215] написана Галиной Кузнецовой, «письма в редакцию» подписаны Зинаидой Гиппиус [8, с. 216–218] и Романом Гулем [8, с. 227–228]. «Шесть юморесок об Александре Стависском» [8, с. 218–220] созданы Дон-Аминадо, небольшая зарисовка принадлежит перу Марка Алданова [8, с. 220–223], а две заметки из раздела «В мире финансов» [8, с. 224–227] подписаны Дм. Философовым и П. Н. Милюковым.
Все это еще снабжено комментариями публикаторов, два досье пестрят разъяснениями и более поздними вставками Ж. С., а весь роман открывается «Несколькими предупреждениями от автора» [8, с. 3–4] и завершается маленьким разделом «От автора. Несколько прощальных замечаний» [8, с. 250–251]. Как видим, простое перечисление всех составляющих уже создает чрезвычайно пеструю картину. Но главное состоит в том, что все это многообразие документов и свидетельств не собрано, а создано автором и есть не что иное, как причудливо выстроенное игровое пространство, где каждый новый документ – штрих в общей картине. Читатель по мере развития сюжета раз за разом возвращается к личности героя, событиям его жизни и в целом к жизни французской республики первой половины 30-х гг. ХХ в., всякий раз обретая новые знания о герое и произошедших событиях.
Продвигаясь от свидетельства к свидетельству, читатель должен проанализировать и в результате принять или отвергнуть каждую из заявленных точек зрения. В одних фрагментах Стависский предстает как любящий муж и отец, в других – как мелкий жулик, в третьих – чрезвычайно щедрый благодетель, в четвертых – как человек, способный обмануть тысячи людей и вместе с тем наделенный собственными представлениями о чести. Из одних источников читатель узнает, что герой («ходили упорные слухи» [8, с. 41]) возможно состоял на тайной службе в Сютре Женераль – «службе безопасности, которая занималась обезвреживанием иностранных шпионов на территории Франции» [8, с. 54], из других ясно, что многие государственные чиновники и члены французского правительства охотно и часто принимали от него крупные суммы в качестве подарков. Большинство современников сходится во мнении о нем как о гениальном мошеннике («финансовый гений-аферист» [8, с. 42]). С каждым новым документом читательские представления множатся, дополняются, а часто и противостоят друг другу.
Установка на множественность и противоречивость мнений о герое четко выдерживается на протяжении всего повествования и усиливается авторской провокационностью по отношению к читателю (введение в текст в качестве свидетелей подлинности описанных событий известных людей – писателей, поэтов, политиков). Тот же принцип можно увидеть и в «Завоевателе Парижа…»: читатель становится свидетелем нескольких встреч Ланжерона с А. С. Пушкиным и каждый раз оказывается перед дилеммой «верить или не верить» и «а правда ли, что…».
Важным фактором в формировании читательской модели происходящего в романе «Красавчик Саша» становится, на наш взгляд, использование принципа узнавания: герой не эволюционирует, а в каждом последующем отрывке поворачивается к читателю какой-то новой гранью своей личности, как бы приоткрывая тайну собственной жизни и гибели и дополняя читательские представления о себе самом. Во многом именно благодаря такой организации текста образ Стависского получился живым и многомерным. Читатель волен принимать или не принимать его побуждения и действия, но очевидно, что этот человек, которого одни современники проклинали и клеймили, а другие им восхищались, никого не оставит равнодушным.
Другой коммуникативный принцип лежит в основе формирования читательского восприятия в романах «Шпион Его Величества…» и «Генерал-шпион…». В них мы видим происходящее глазами главных героев, чьи гипотетические дневник («тетрадочки» [9], в которые записывал де Санглен о происходящих событиях) и записки («извлечения из записок генерала Ивана Витта» [6]) становятся повествованием о жизни человека и страны. Читатель погружается в будто бы существующие в реальности мемуары (а именно так в данном случае следует интерпретировать дневник и записки), а подобное повествование, как известно, подразумевает предельную искренность, даже исповедальность. Еще одна характерная жанровая черта воспоминаний – фрагментарность, возможность выделить одно и опустить другое. Это способствует усилению динамизма повествования, а значит, и постоянно усиливает читательский интерес.
Русская реальность начала ХIХ в., увиденная глазами офицеров, приближенных к царю и находящихся в гуще интриг и противостояния с наполеоновской Францией, захватывает читателя. Их оценки других людей (а ведь среди них известные исторические деятели Александр I, М. И. Кутузов, Барклай де Толли и др.) часто отличаются от тех стереотипов, которые уже сложились у читателя. Причем характерно, что автор нередко провоцирует спор с читателем, опровергая устоявшиеся стереотипы, вызывая его несогласие или заручаясь его поддержкой. Свидетельством возникновения подобных отношений могут служить рецензии А. Агеева [1], в которой определяющим становится неприятие критиком авторского видения исторических событий, и И. Лежавы [10], принимающей авторский взгляд на войну 1812 г. Обсуждается не художественная сторона произведения, не мастерство писателя, а интерпретация исторической реальности.
Иллюстрацией данного тезиса может служить второй эпизод третьего тома «шпионско-полицейской саги» «Приехал Кутузов бить французов», где автор вступает в полемику с толстовской интерпретацией событий, предшествовавших сдаче Москвы французам. Установка на полемичность и в то же время на подтверждение достоверности описываемого в этом эпизоде заложена в форме повествования: ему предшествует небольшой фрагмент «От публикаторов», в котором приводятся выдержки из «Войны и мира» Л. Н. Толстого и дается их соотнесение с реальным положением вещей («Не в силах игнорировать эти факты, Толстой вкладывает в уста Ростопчина следующие слова, обращенные к Кутузову» [9]). Свое понимание происходящего предлагает и автор, который ссылается на тайный дневник де Санглена, подчеркивая его реальность («Оригинал дневника хранится в муниципальном архиве города Ош, департамент Жер, Гасконь, Франция» [9]). Автор как бы устраняется, предоставляя читателю разбираться и составлять собственное видение произошедшего.
Таким образом, коммуникативные отношения между автором и читателем в романах Е. Курганова во многом основаны на столкновении различных точек зрения. Их может быть много, как в «Красавчике Саше», или всего несколько, как в «Генерале-шпионе», но они очень важны.
Ни один из рассказчиков в любом романе не охватывает событие целиком, потому что каждый судит лишь о фактах, ему известных, и играет строго отведенную ему роль. И только читатель складывает общую картину, поскольку обладает всеми знаниями о произошедшем. Поэтому он и становится со-творцом, а не просто наблюдателем.
Итак, как свидетельствует проза Е. Курганова, коммуникативные процессы, свойственные исторической художественной литературе, отличаются многообразием и сложностью. В произведениях этого писателя стремление к коммуникативности во многом подчиняет себе весь строй повествования. Автор и читатель оказываются, по определению М. Маклюэна, «в едином процессе демонстрации смыслов, их интерпретации» [12, с. 38]. Атмосфера недосказанности, коллажность, множественность точек зрения, вариативность возможных решений – это и многое другое превращает читателя в творца, участвующего в создании художественного целого.
THE AUTHOR AND READER IN COMMUNICATION PROCESSES IN MODERN HISTORY LITERATURE
Tver State University
Department of journalism and modern Russian literature