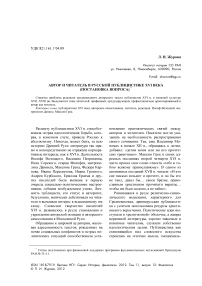Автор и читатель в русской публицистике XVI века (постановка вопроса)
Автор: Журова Людмила Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Ставится проблема рецепции средневекового авторского текста публицистов XVI в. в книжной культуре XVII–XVIII вв. Выделяются типы читателей: профанный, продуцирующий, профессионально ориентированный и автор как читатель.
Публицистика xvi века, авторское самосознание, читатель, рецепция, иосиф волоцкий, митрополит даниил, максим грек
Короткий адрес: https://sciup.org/14737711
IDR: 14737711 | УДК: 821.161.1’04.09
Текст научной статьи Автор и читатель в русской публицистике XVI века (постановка вопроса)
Расцвету публицистики XVI в. способствовала острая идеологическая борьба, которая, в конечном счете, привела Россию к абсолютизму. Никогда, может быть, за всю историю Древней Руси литература так прямо и непосредственно не отражала корпоративные интересы, как в XVI в. Деятельность Иосифа Волоцкого, Вассиана Патрикеева, Нила Сорского, старца Филофея, митрополита Даниила, Максима Грека, Федора Карпова, Ивана Пересветова, Ивана Грозного, Андрея Курбского, Ермолая Еразма и других писателей была вызвана в первую очередь социально-политическими настроениями, «общим возбуждением умов». Личность публициста, его статус и авторитет, безусловно, магически действовали на читателя и вызывали интерес к высказанному им слову. Словесное творчество писателей XVI в. развивалось в русле становления и укреплении авторской позиции и авторского самосознания в Московской Руси.
Обращение к широкой аудитории, массовая адресованность текстов, рожденных на почве социальных конфликтов и острых политических ситуаций способствовали уста- новлению прагматических связей между автором и читателем. Писатели могли указывать на необходимость распространения своего сочинения. Так, еще Владимир Мономах в начале XII в., обращаясь к детям, добавил: «детям моим или ин кто прочтет сию грамотицю». Максим Грек в своих адресных посланиях второй четверти XVI в. часто просил свое слово отнести «тебе и тобою всякому православному». В одном из анонимных посланий XVII в. читаем: «И кто сие письмо возьмет и прочтет, и он бы его не таил, давал бы… своеи братие, православным христианом прочитати вкратце… чтобы им было ведомо, а не тайно».
Развившаяся в русле религиозно-символического мышления, характерного для Средневековья, древнерусская публицистика с успехом использовала ресурсы христианского вероучения. Политические идеи выступали в «религиозной» оболочке, а жанры церковной литературы, хорошо знакомые и понятные читателям, служили собственно идеологическим целям. Публицистика как становящийся вид словесного искусства строилась на эстетике мысли, эмоциональ- ной выразительности стиля и заразительности концепции.
В отличие от публицистики Нового времени, отмеченной недолговечностью жизни текста в общественной среде, древнерусское слово эпидейктического красноречия на протяжении десятилетий и столетий могло сохранять к себе интерес читательской аудитории. Придерживаясь традиционных приемов организации текста, обращаясь к актуальным проблемам своего времени, публицистика разрабатывала новые поэтические средства и риторические приемы воздействия слова на читателя, и в XVI в. она стала «локомотивом» литературного процесса.
Основными формами общественно-политической речи были полемические формы слова: послания, беседы, ответы. Послание, особенно открытое послание, приобрело функцию публицистического жанра в XV– XVI вв.
Немаловажно, что публицистические жанры ориентированы на эффект звучащей речи, которая «разыгрывает» ситуацию непосредственного общения автора и читателя. Автор воспринимается как Говорящий, что усиливает коммуникативную стратегию высказывания.
Восприятие публицистического текста в Средневековье было подготовлено многовековой практикой проповедничества [Черто-рицкая, 1987. С. 5–30; Левшун, 2009. С. 194–268, 461–479], которая воспитала слушателя / читателя, находящегося в состоянии необманутого ожидания. Целенаправленность публицистического слова, симфоничность пропагандистской речи требовала от слушателя / читателя работы над собой. Видимо, круг таких реципиентов был не столь велик, как круг читателей агиографии.
Проблема древнерусского читателя разрабатывается рядом исследователей [Берман, 1982. С. 159–183; Шапошников, 2001; Головань, 2007. С. 16–20]. В последнее время ученые отошли от парадигмы автор / произведение (описанной в работах Р. Пик-кио [2003. С. 163–180]) и обратились к парадигме, ориентированной на средневекового читателя, в которой средневековый автор (также сочинитель или компилятор) является не чем иным, как особым случаем читателя. По мнению Р. Романчука, парадигма, ориентированная на читателя, не только бо- лее подходит для объяснения некоторых черт открытой рукописной традиции в литературе Древней Руси, чем парадигма, ориентированная на автора, но и, вероятно, позволит распознать и мотивировать наличие разнообразных методов переработки текстов, различия между которыми при ином подходе, возможно, остались бы незамеченными [2003. С. 51].
Об активной и продуцирующей роли древнерусского читателя рассуждал Д. С. Лихачев [1979. С. 93]. Сегодня через категорию «читатель» отечественные и зарубежные литературоведы пытаются определить литературный процесс: «История литературы образуется... не историей отдельных жанров, а в качестве своей основы историей рецепций отдельных текстов и, далее, обобщенной характеристикой рецептивных изменений, характеризующих разные периоды» [Живов, 2000. С. 606–607]; «История литературы есть история различных модальностей апроприации текстов» [Шар-тье, 2001. С. 164]. Большую роль в разработке проблемы сыграла «рецептивная эстетика» – теория, согласно которой произведение «возникает», «реализуется» только в процессе встречи, контакта литературного текста с читателем и благодаря «обратной связи», в свою очередь, «воздействует на произведение, определяя таким образом конкретно-исторический характер его восприятия и бытования» [Солоухина, 1985].
В средневековой литературе (как и в фольклоре) читатель играл более активную роль, чем в литературе Нового времени, потому он часто становился со-творцом произведения. «Господствующей фигурой средневековой книжности» называет читателя современный исследователь [Грицев-ская, 2009. С. 106]. Средневековый текст, выросший на традиции коллективного творчества (сотворчества автора, редактора, писца), прагматичный по своей природе, создавал коммуникацию мифологического типа и тем самым способствовал самоорганизации восприятия.
Слушатель / читатель древнерусской публицистики был поставлен в ситуацию, когда он должен выстроить контакт с автором через слово, причем стремясь в первую очередь понять текст, а не автора. Воспринимающее сознание в Средневековье настроено на «потребление произведения», а не на
«игру с текстом» (термины Р. Барта [1994]). Оно рефлексирует в отношении формы текста, которая ему знакома, оно узнает топическую систему, что и позволяет ему получать «удовольствие от текста». Оно поддается воздействию стереотипов, закодированных в языке проповеднической культуры. Текст как механизм внушения регулирует поведение человека в социуме. Этот средневековый, воспитанный в определенной системе культуры чтения субъект, подготовленный Читатель, не только реципиент, но и со-участник творческого процесса.
Авторский текст в русской публицистике XVI в. как феномен средневековой словесной культуры, безусловно, иначе, чем прежде, выстраивал отношения автора и читателя. Выделенный в древнерусской литературе жанровый образ автора [Лихачев, 1979. С. 69], видимо, предполагает введение категории жанрового образа читателя.
Заботой о читателе, вероятно, была инициирована практика составления публицистами XVI в. сборников и целых собраний собственных сочинений. Систематизация, редактирование и комментирование авторских трудов было предпринято именно для того, чтобы быть понятым читателем. «Книга на новгородских еретиков», составленная в начале XVI в. Иосифом Волоцким, редактором / читателем в начале XVII в. была воспринята как сочинение образовательного толка и получила облигаторное название – «Просветитель».
Главы «Соборника» митрополита Даниила построены так, чтобы «самым опытом свидетельствовать перед слушателями и читателями, что высказанные им мысли вполне согласны с Священным Писанием, правилами церкви и учением святых отцов» [Беляев, 1856. Стлб. 204]. В. Жмакин назвал труд Даниила «церковной энциклопедией» и заметил, что рядом с «самыми грозными обличениями помещается похвала слушателям или читателям» [Жмакин, 1881. С. 289]. Даниил непосредственно почти в каждом своем Слове обращался к читателю: «При-ид h те, о возлюблении, бес h дуемъ бес h ды душеполезныя, и повести, и притчи спаси-тельныя!».
Знаменитые рукописные собрания сочинений Максима Грека в авторских редакциях середины XVI в. организованы таким способом, чтобы полнее представить систему взглядов писателя по актуальным вопросам жизни Московской Руси, дать «ответ судиям» и клеветникам, добиться понимания читателями. Большинство трудов ученого монаха адресные. Среди адресатов официальные лица (великий князь Василий Иванович III, царь Иван IV, митрополиты Даниил, Макарий, епископы), друзья (Федор Карпов), оппоненты (Николай Немчин), а также «некий князь», «некий инок», «честные инокини», «друг возлюбленный», «имярек» и др. Апеллятивность письменной речи афонца – эффективный прием автора в установлении контакта с читателем.
В организации читательского восприятия решающую роль играло предисловие к тематическому сборнику – жанр в Средние века «столь же распространенный, как и литературная молитва» [Панченко, 1973. С. 31], где «триада автор – читатель – книга составляла общетипологическую схему» [Сазонова, 1981. С. 155–156; 2003. С. 1258]. Как правило, такие своды сочинений открывались обращением к «Читателю любезнейшему». Основные его цели – коммуникативная, т. е. установление контакта с читателем; референтная, т. е. предварительное ознакомление с темой; суггестивная, т. е. настраивание на восприятие книги. О «приготовлении к чтению», занимавшем в Древней Руси серьезное место, рассуждал Д. С. Лихачев. В предисловии, где, как правило, указывается адресат произведения – читатель и слушатель, не только сообщается предмет повествования, но и «тот эмоциональный ключ, в котором должно восприниматься все дальнейшее» [1979. С. 72]. Обращение к читателю, прямое или косвенное, – обязательный элемент предисловия. Иосиф Волоцкий свое обширное «Сказание о новоявившеися ереси новгородских еретиков», выполняющее функцию пролога к полемической речи церковного писателя, заканчивает словами: «Събрахъ же въедино от различныхъ Писании божественыхъ; яко да вhдящеи божественнаа Писаниа прочет-ше да воспомянутъ себh, невhдущеи же прочетше да разумhютъ. И аще кому что потребно будетъ противу еретическымъ ре-чемъ, и благодатию Божиею обрящетъ готово безъ труда въ коемждо словh» (здесь и далее подчеркнуто мною. – Л. Ж.) [Просветитель, 1904. С. 48]. Краткое предисловие к «Соборнику» митрополит Даниил начинает с аллюзии к тексту своего учителя Иосифа Волоцкого: «Зане аще что кому ключаемо будет или противу еретическых речеи или межи православных нhкое стязание и рhчи, и благодатию Божиею обрящет готово без труда в коемждо Словh противу бываемых которых винъ къ благоугожению Божию и ползh душамъ» 1. Слова Даниила отличаются от сочинений Иосифа редуцированием полемического тона, в них больше назидательности, нежели дискуссионности, что оправдано общественно-политической ситуацией 30-х гг. XVI в. [Журова, 2012. С. 26–27]. И в своем вступлении митрополит демонстрирует задушевный тон разговора с читателем: «Аще ли же что обрящет-ся в тhх неугодно Богу и неполезно души ради моего неразумиа и невhжьства, и азъ о сих всhх вас молю и прощениа прошу да не послушает, ни да творит кто тако по моему безумию сътвореных, но лучшее да творит, яже есть благоугодно Богу и полезно души» 2.
«Предисловие, сказующе вкратце силу книжкы сеа» к Иоасафовскому кодексу Максима Грека аннотирует содержание сборника, обращая внимание «чтущего» на самые актуальные темы Слов, «съчини же ся некымъ святогорьскым грекомъ, имя же ему Максим». Предисловие правлено рукой Максима Грека. Прямых обращений к читателю нет. О себе автор говорит единожды в составе заключительной уничижительной формулы: «...буди вс h мъ... и пра-ведныи, и гр h шным (ихже азъ прьвыи и зл h ишии есмъ), мудрым же и немуд-рымъ...» 3. Интенция понимается как «наставление всякое, руководяще чтущаго на стезя преподобных доброд h телеи» 4. Интонация речи ученого грека в отличие от митрополита Даниила менее эмоционально окрашена, она академична и аристократична.
Известные «сказы» Андрея Курбского к собственным переводам творений Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина являют интересный опыт писателя, выступившего в роли читателя и обратившегося к своим читателям. Они хорошо прокомментированы А. С. Архангельским: «Многие из этих “ска- зов” весьма любопытны; они показывают не только широкое и многостороннее образование самого Кубрского, но – что особенно важно – и его необыкновенную предупредительность к своим будущим читателям, теплую, сердечную заботливость о возможно большем “вырозумении” ими предлагаемого чтения» [Архангельский, 1888. С. 262].
Озабоченность автора рецепцией своих сочинений вызывала и у читателя соответствующую реакцию. Маргиналии, глоссы и разного типа надписи, ставшие предметом специального изучения [Поздеева, 1978; Столярова, 1998; Лаврик, 2004], отражали интересы читателей, их оценку прочитанного и оттенки восприятия. Так, в истории «Сказания о крестном знамении» Максима Грека, включенного автором в прижизненные кодексы и правленного его рукой в Иоасафовском сборнике, отмечен колоритный случай, когда старообрядцы в начале XVIII в., в своих идейных построениях опиравшиеся на текст и авторитет ученого грека, на рукописи РГБ, собр. МДА/I, № 42 (основной список Иоасафовского собрания) оставили запись: «Сие слово не Максимово, ложно, кто инъ написал». Сторонники старого обряда – самые многочисленные и дотошные читатели рукописного наследия Максима Грека. Они редактировали авторские рукописи, например, стирали букву I в имени «Иисус», занимаясь откровенной подделкой в стремлении доказать истинность старой веры, достойным представителем которой в их идеологических построениях был греческий инок. В указанном сборнике (РГБ, собр. МДА/I, № 42) первые два листа рукописи заняты записями старообрядческих книжников XVIII или XIX в., доказывающими подложный характер некоторых глав авторского сборника (одна из них, 33-я, о «крестном знамении»).
В этом же сборнике, изобилующем авторскими маргиналиями, равноправны по своей природной и функциональной значимости глоссы писцов и редакторов. Например, к авторскому тексту («Слово на иудея», 5 глава Иоасафовского собрания) «елика прорекоша» редактор на поле написал: «архангел Михаилъ» (л. 27), слова «божественное слово въпиетъ» редактор уточнил: «сирhчь Исаино, 5» (л. 29), фразу «яко за-печатлh прочее и видhние и мудраго пророка» прокомментировал на нижнем поле с пометой «толк: “видhние есть еже просвh- щением Святаго Духа зрят пророцы”» (л. 26 об.). Содержанием записей читателей становились добавления к авторскому тексту, восстановление полной библейской цитаты или отметка цитаты, подведение варианта чтения (живот – пуп). Множество подобных примеров наблюдаем в рукописной традиции разных древнерусских сочинений.
Книжников – копиистов, писцов, редакторов – следует квалифицировать как специальных , профессиональных читателей. Их чтение есть активная деятельность. Они правили тексты, формировали новый состав сборников, делали оригинальные подборки, составляли тематические циклы и т. д. Ярким примером такого феномена служит история собраний сочинений Максима Грека, составленных русскими редакторами разных книжных центров в последней четверти XVI – начале XVII в. и старообрядцами в начале XVIII в. Опираясь на систему авторских кодексов (Иоасафовское и Хлудовское собрания, большей частью на Хлудовское), редакторы-составители после жизни автора создали новые своды трудов святогорца, изменив архитектуру прижизненных сборников и пополнив их состав. Соловецкое, Рогожское, Ионы Думина, Синодальное, Троицкое, Полное, Поморское собрания можно определить как явление, которое М. М. Бахтин назвал «сотворчеством понимающих» [1995. С. 19].
Кульминации активность читателя достигала тогда, когда книжник приписывал свой текст (или, чаще всего, собственную компиляцию) имени известного писателя (много приписано Иоанну Златоусту [Гранг-стрем, 1974. С. 186; 1980. С. 345], известны квазиавторские тексты сочинений Максима Грека, например, «Слово ответно» Николаю Булеву [Журова, 2005].
Автор как читатель – положение, заслуживающее самого пристального анализа. Автор как читатель источников (библейские и святоотеческие сочинения) выступает многофункционально (комментатор, интерпретатор, нарратор) и креативно (он порождает собственный текст с помощью цитат, реминисценций, контаминаций). Большим мастером работы с прецедентным текстом был Максим Грек [Журова, 2003; 2005]. Ссылки на Священное писание и учительную литературу служили опорой в построении Слов «Просветителя» Иосифа Волоцко- го и «Соборника» Даниила. Последний вторую часть (из трех) своего Слова целиком составлял из выписок «чужого» текста. Следует дать научную оценку этому опыту, распространенному среди церковных писателей, например, в творчестве патриарха Никона.
Самым популярным жанром публицистики XVI в. было послание, часто открытое послание, переходящее в трактат. В первой половине XVI в. письменная культура Европы и Московской Руси осваивала трактат (Эразм Роттердамский, Иоган Людовик Вивес, Максим Грек). Исследование посланий Максима Грека, митрополита Даниила, Федора Карпова, современников, крупных общественных деятелей первой половины XVI в., людей, находившихся долгое время в сложных, но большей частью дружеских отношениях, позволяет представить отношения автора и читателя, как отношения адресанта и адресата . Согласно этикету жанра ответного послания авторы приводили цитаты из писем друг другу или хотя бы намеки, аллюзии на полученное письмо, тем самым проявляя себя как читатели. В качестве примера можно привести послание Максима Грека Николаю Булеву [Преподобный Максим Грек, 2008. С. 133–138; Журова, 2008а. С. 37–45], послание Федора Карпова митрополиту Даниилу [Поучение…, 2000. С. 346–359], переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским [Переписка…, 1981].
Писатели XVI–XVIII вв., обратившиеся к литературному наследию публицистов первой половины XVI в., развивавшие их идеи, использовавшие их тексты, выделяются в группу продуцирующих читателей. Они порождали собственные тексты, опираясь на авторитетное слово своего предшественника. Продолжателями и подражателями Максима Грека были Исайя Каменчанин, Андрей Курбский, Афанасий Холмогорский [Шашков, 1982; Панич, 2009]. Очень активно работали со словом Максима Грека старообрядцы [Гурьянова, 2009]. Сочинения монаха по-разному интерпретируются противниками и сторонниками старой веры [Шашков, 1979. С. 81–82].
Профанный читатель (читатель-потребитель) был самым массовым (степень массовости, разумеется, не сопоставима с представлениями о современном читателе). Анализ рукописей позволяет видеть авто- графы читателей. Наиболее часты пометы на полях рукописей: маргиналии, которые могли представлять собой короткое «Зри» или целый фрагмент текста. Читатели таким образом встраивались в цепь речевого общения.
Необходимо выделять читателей по времени, их можно определить по почерку: почерк, современный рукописи, или новый почерк. Такая датировка позволяет оценить процесс восприятия текста на протяжении длительного исторического времени. Будучи субъектом литературного процесса, читатель создает свой текст произведения, когда возвращается к источнику (чужому тексту), когда цитирует его, когда делает выписки, создавая тем самым историю сочинения.
Потребность приобщения к авторитетному слову известного писателя, экономия средств, времени, сил выразилась в такой форме бытования авторского текста, как выписки читателей. Они приходятся на тот период жизни текста, когда элиминируется содержание произведения, но остается в восприятии его концепт, они отражают уже другое время и другие пристрастия. Так, например, в сибирской рукописной традиции XVII–XX вв. отмечены случаи бытования сочинений Максима Грека в виде выписок [Журова, 2008б]. Выписки – особый случай рукописной книжной культуры, требующий дальнейшего изучения.
Итак, в русской средневековой публицистике мы имеем дело, как правило, с реальным читателем. Основные его типы: автор как читатель; адресат как читатель; специальный профессиональный читатель (переписчик, редактор); собственно Читатель, или профанный читатель, или читатель-пользователь.
И наконец, следует признать существование в древнерусской книжности XVI в. читателя виртуального (ирреального) (но не имплицитного), который будет активно участвовать в литературном процессе Нового времени. У Максима Грека есть ряд посланий, в которых автор отвечает на якобы заданный ему вопрос 5. Историки считают, что надо в таких случаях искать конкретного адресата. Я полагаю, что это чисто литературный прием – делиберативный вопрос, провоцирующий вопрос, который автор использует для мотивации своего повествования.
Изложенные наблюдения могут послужить основной для дальнейшей разработки проблемы автора и читателя в древнерусской литературе.