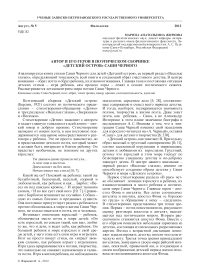Автор и его герои в поэтическом сборнике «Детский остров» Саши Черного
Автор: Жиркова Марина Анатольевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируется книга стихов Саши Черного для детей «Детский остров», ее первый раздел «Веселые глазки», определяющий тональность всей книги и создающий образ счастливого детства. В центре внимания - образ поэта и образ ребенка, их взаимоотношения. Главная тема и постоянная ситуация детских стихов - игра ребенка, сам процесс игры - лежат в основе поэтического сюжета. Рассматривается детскоцентризм мира поэзии Саши Черного.
Саша черный, поэт, образ, точка зрения, юмор, ирония, сентиментальность, идиллия
Короткий адрес: https://sciup.org/14750187
IDR: 14750187 | УДК: 82
Текст научной статьи Автор и его герои в поэтическом сборнике «Детский остров» Саши Черного
Поэтический сборник «Детский остров» (Берлин, 1921) состоит из поэтического предисловия – стихотворения-обращения «Детям» и трех разделов: «Веселые глазки», «Зверюшки» и «Песенки».
Стихотворение «Детям» знакомит с автором и задает главную тональность всей книги – мягкий юмор и добрую иронию. Стихотворение написано от имени поэта, в нем постоянно поддерживается ощущение непосредственного разговора с ребенка. Это не просто знакомство, но и представление детского поэта, который может и должен быть интересен и близок ребенку. Он предстает необычным, не похожим на других взрослых:
Уж давным-давно пропели петухи…
А поэт еще в постели.
Днем шагает он без цели,
Ночью пишет все стихи [10; 7].
Какой же он? Похожий на ребенка: такой же беззаботный, беспечный, веселый, озорной и любопытный, как ребенок и как… Барбос: «Весел он под каждым кровом, / И играет звонким словом, / И во все сует свой нос» [10; 7]. Сравнение с Барбосом возникает не случайно. Собака – одно из самых близких и преданных существ. Она постоянно присутствует рядом с ребенком и прочно обосновалась в мире и жизни Саши Черного, не только писателя и поэта, но и человека.
Возникает оппозиция взрослый – ребенок, обозначается место поэта в мире детей: «Он хоть взрослый, но совсем такой, как вы», любит то же, что и дети, и ведет себя, как ребенок. Он большой ребенок в мире взрослых и свой среди детей, у него тоже есть свои игры и игрушки. Поэт не просто пишет стихи, он «играет звонким словом», как ребенок играет с игрушками. Игра здесь приравнивается к поэзии, творчеству, что нисколько не снижает вдохновения и таланта поэта. Игра в жизни ребенка, по наблюдениям психологов, серьезное дело [5; 28], составляющее содержание и смысл всего периода детства. И тогда, наоборот, подчеркивается значимость поэзии, творчества в жизни поэта. Даже зовут поэта, как ребенка, – Саша, а не Александр. Интересно в этом плане замечание биографа и исследователя А. С. Иванова о том, что в эмиграции Саша Черный изменил свой псевдоним для взрослого читателя на «А. Черный», оставив «Сашу» для детского творчества [6; 530].
«Детский остров», как замечает В. Приходько, образ веселый и грустный одновременно [8; 11], плотно заселенный игрушками и зверюшками, детьми и любящими их взрослыми. Грустный, потому что взрослый в этом мире тоскует по безвозвратно ушедшему детству и по-доброму завидует детям. В центре нашего внимания – первый раздел «Веселые глазки», именно он способствует созданию образа детства у Саши Черного и мира «Детского острова».
Первое стихотворение раздела «В раю» четко обозначает позиции взрослого и ребенка, их взаимоотношения и место ребенка в поэтическом мире Саши Черного. Главные герои – апостол Фома и ангелята. Все легко соотносимо: ангелята и внучата, апостол Фома «с бородою по грудь» и обращение к нему – «дедушка». В стихотворении представлены три точки зрения. Первая – поэта-повествователя, рисующего сценку разговора апостола и ангелят, находящегося над поэтическим миром. Вторым рассказчиком становится апостол Фома. Вместе с его образом появляется небольшая зарисовка из детства, состоящая из нескольких разрозненных картин. Взгляд с возрастной дистанции позволяет идеализировать детство, вносит ностальгическую ноту. Третья точка зрения принадлежит ангелятам, живущим в своем мире райской жизнью, понятной, привычной им, и создающим в своем воображении детский период жизни человека по воспоминаниям апостола Фомы.
В финале происходит совпадение всех точек зрения, фокусировка дана в последней фразе, к которой присоединяются все: «Хорошо быть детьми…» Это не просто утверждение ангелят, именно так воспринимает свое детство апостол Фома, и к такому мнению присоединяется сам поэт. Не случайно он заканчивает стихотворение именно этой фразой апостола, не внося каких-либо дополнений.
Пространство стихотворения развернуто по вертикали и устремлено ввысь, в рай, который топографически также обозначен: лиловые дорожки, по которым гуляют газели; под тенистой смоковницей садятся в кружок ангелята с апостолом Фомой. Но в его детских воспоминаниях возникает земная жизнь, которая, в противовес обычным представлениям, оказывается вдруг интереснее, заманчивее райской.
В раю царят теплые семейные отношения. Божественный небесный сад, где должны так же царить гармония и счастье, оказывается недостаточно счастливым для его вечных обитателей. Ангелятам недоступны простые земные радости ребенка: кораблики из коры, драка с ребятами, пререкание с учителем, ловля рыбок в ручье – о чем с улыбкой вспоминает апостол. Отсюда тоска по несбыточному и легкая грусть. Так возникает двойная тональность: пересекаются веселье и грусть, любовь и белая зависть к ребятам, переживающим счастливую пору детства. Поэтому общая тональность стихотворения светлая. Последнее утверждение («Хорошо быть детьми…») дано как констатация факта, причем бесспорного, высказанного «небожителями» и постоянно подтверждающегося далее всем поэтическим сборником.
В стихотворении «Приготовишка» наблюдается некая двойственность образа: с одной стороны, образ приготовишки создает поэт, наблюдающий за ним со стороны, с другой – это автобиографический образ самого поэта, только ребенка.
Переход и проникновение в детский мир происходят быстро и незаметно для читателя или слушателя и имеют в основе несколько составляющих. Прежде всего образ поэта из стихотворения «Детям»: беззаботный и беспечный, близкий по мировосприятию детям; мудрый дедушка – апостол Фома, вспоминающий свое детство, возникает образ озорного, смешного, задиристого мальчишки и образ веселого и счастливого детства, о котором с тоской вспоминается даже в раю. Далее рисуется образ приготовишки, во многом близкий образу из воспоминаний апостола: пухленький, с румянцем на щеках мальчишка, задира и заводила, смешной своей серьезностью. Таким образом, Саша Черный предстает сначала как поэт, это взрослый человек, но близкий любому ребенку, а в «Приготовишке» он уже сам ребенок.
Переход осуществился, и мы не заметили, как взрослый превратился в ребенка, а мы вместе с ним оказались на «Детском острове» Саши Черного среди его героев, воспринимая их с позиции поэта и видя мир детскими глазами. Е. О. Путилова пишет о Саше Черном: «Поэт, которому для встречи с детством не надо было преодолевать никаких дистанций» [9; 44]. В первых рецензиях отмечалась именно эта детскость поэта: «Поглядите, он и смеется совсем как ребенок, улыбка у него ребячья, и плачет как ребенок, крупными блестящими слезами, похожими на стеклянные бусы» [4], «большой поэт с душой ребенка» [3], «сам стал ребенком, ребенком, который и прост, и ясен, и не умеет еще болеть взрослыми болями» [1]. Именно таким вспоминают его близкие и знакомые: «…всегда ласковый и нежный, до седых волос сохранивший в душе необыкновенную чистоту и свежесть большого, доброго ребенка!..» [7].
Поэт принадлежит взрослому миру, и он счастлив, когда играет вместе с детьми, с улыбкой наблюдает за ними, подмечает забавное в их жизни. Но поэт является и частью детского мира, равноправным участником детских забав. В следующих двух стихотворения взрослый и ребенок разведены, но в «Костре» есть общая игра, где взрослый оказывается причастен к детскому миру и вовлечен в игру. А стихотворение «Трубочист» написано уже от лица ребенка, размышляющего над таким странным явлением, как трубочист. Представлены рассуждения ребенка, подбадривающего и успокаивающего самого себя: «Он совсем, совсем не страшный» [10; 12]. Трубочист также оказывается причастен детскому миру: «У него есть сын и дочка» [10; 12]. А главное – он добрый и любит зверюшек: «Он на завтрак взял печенку. / Угостил одну ко-щёнку, / Ну – а та сболтнула всем». И теперь бегут «за ним коты гурьбою». Он свой, поэтому и бояться его не стоит, и попрощаться с ним необходимо по-доброму: «Дай ему скорее лапку, / – Сажу смоешь, – не беда» [9; 12]. А к кому обращен его монолог, с кем разговаривает ребенок? Возможно, с тем же Барбосом.
Главная тема и постоянная ситуация детских стихов в первом разделе – игра ребенка, сам процесс игры – лежат в основе поэтического сюжета. У детей свой мир, наполненный игрой, когда веселого, игривого настроения ничто не может испортить, как, например, у героев стихотворения «Перед ужином»: «Всех нас бабушка прогнала из избы… / Мы рябинками в избе стреляли в цель, / Ну а бабушка ощипывала хмель. / Что ж… На улице еще нам веселей…» [10; 12–13].
На улице находится много интересного: что для взрослого не заслуживает внимания, оказывается для ребенка целым миром, наполненным своей жизнью. Для него в игру может включаться все: игрушки, животные, стулья, всякий му- сор (с точки зрения взрослого), даже сами взрослые, как в стихотворениях «Поезд» и «Цирк».
«Поезд» – знакомая и понятная каждому ребенку игра. Здесь есть все атрибуты реального мира: вагоны, пассажиры, кочегар, кондуктор и машинист, билеты и станция, даже звонки к отправлению. Но среди пассажиров – кошки и куклы, вагоны – стулья, билеты – «чурки, да шкурки, / Бумажки от конфет», а конечная станция называется «Мартышка». Взрослые тоже включены в эту игру, правда, в качестве «зайцев» – безбилетных пассажиров. Стулья стоят на месте, но «стулья-вагоны» движутся, мчатся, летят. Стихотворение наполнено шумом поезда, звоном колокола, гомоном пассажиров. Звукоподражательные слова являются составной частью поэтического строя: они дают «разогнаться» поезду в начале пути и «тормозят» движение в конце. Перед «остановкой» происходит смена ритма, уходит рифма, и стихотворение заканчивается, когда заканчивается движение импровизированного поезда.
В «Цирке» настоящее цирковое представление разыгрывается перед зрителями, смешное как разворачивающимися событиями, так и веселой чехардой детей и взрослых, игрушек и животных.
Есть ряд стихотворений, где показан ребенок в общении с игрушками: «Про Катюшу», «Бобина лошадка», «Про девочку, которая нашла своего Мишку». Маленькие зарисовки из повседневной жизни ребенка, подмеченные взрослым. Поэт с улыбкой наблюдает за играющими детьми, подчеркивая комичность детской серьезности, наивности, предприимчивости.
Стихотворение «Про Катюшу» начинается с создания контрастных образов: за окном и стенами дома холодный мир, где неуютно и тоскливо даже волкам, а в доме тепло и уютно, горит огонь в печи. В комнате играет девочка, укладывая спать свои игрушки. У каждой игрушке есть некая ущербность. Игрушки, по-видимому, единственные, старые, заигранные, поэтому вызывают не только любовь и привязанность ребенка, но и особое сочувствие и заботу. Игрушки уложены спать «В старый мамин чулок / С дыркой, / Чтоб можно было дышать», – а дальше: «Извольте спать! / А я займусь стиркой…» [10; 14].
Роль мамы определяет поведение. У ребенка серьезное отношение к игре, отсюда – строгий мамин тон и «взрослое» занятие – стирка, с увлечением и усердием. Смена ритма внутри стихотворения обусловлена сменой изображаемых картин: описание зимнего вечера, перечисление игрушек сменяется действием девочки, а описание развешанных вещей – ее размышлениями. Картинка увидена и подмечена любящим и понимающим взрослым, даже имя героини, точнее имена, – те, какие дает близкий и любящий человек. Любование и улыбка в представлении последних размышлений девочки: «Что бы еще предпринять?..», за которыми невозможность для ребенка сидеть на месте без дела, и новое занятие должно сменить завершившееся.
В «Бобиной лошадке» комичны как сама ситуация, так и ее развитие: представлена попытка ребенка накормить игрушечную лошадку, а выходом в этой ситуации становятся ножницы: «Распорол брюшко лошадке, / Всунул ломтик шоколадки / И запел: “Не хочешь в рот, / Положу тебе в живот!”» [10; 16].
Распоротое брюшко лошадки не означает испорченной, сломанной игрушки, достаточно вспомнить стихотворение «Про Катюшу». Взрослые придумывают свои способы накормить детей, а ребенок – свои. Удивительно сочетание понимания того, что перед ним игрушка, которую можно распороть, и при этом ребенок воспринимает ее как живое существо, им движет желание угостить лошадку. Причем ребенок готов, как с лучшим другом, поделиться самым вкусным, предлагает ведь шоколадку, а не суп или кашу. При этом воспринимает игрушку как капризного ребенка или сложную задачу, не случайно запел от радости и удовольствия, когда получилось справиться, найти выход. Но если игрушечная лошадка может быть наделена чертами живого существа, то и таракашки в мире Саши Черного обладают сознанием: «Подобрались к шоколадке / И лизнули: “Очень сладко!” / Пир горой – и в пять минут / Шоколадке был капут» [10; 16].
Так же, как и кошка, ребенок искренне удивляется увиденному: «Отчего все таракашки / Растолстели, как барашки?» [10; 17]. Накормлена все-таки оказывается не лошадка, но ребенок старался и был увлечен своей заботой, искренне при этом веря, что действительно кормит игрушечного друга.
Вновь перед нами ребенок в общении с игрушкой в стихотворении «Про девочку, которая нашла своего Мишку». Монолог девочки передает все нюансы интонации речи взрослого, обеспокоенного, любящего, заботливого. Комичность создается за счет несоответствия взрослых интонаций и того, кто произносит и к кому обращен этот монолог, соединения в речи взрослых упреков и детских сравнений, взрослых и детских представлений: «Как не стыдно… / Это что еще за мода? / Как ты смел удрать без спроса? / На кого ты стал похож?» Ответ: «На несчастного Барбоса, / За которым гнался еж…» [10; 20]. Умиляет трогательная забота ребенка: «Хочешь супу? Я не ела – / Все оставила тебе. <…> / Самый мой любимый бантик / Повяжу тебе на грудь: / Будешь милый, будешь франтик, – / Только ты послушным будь…» [10; 21].
Стихотворение «Снежная баба» начинается с описания ярких красок зимнего дня: желтое пятно солнца, белизна падающего снега на фоне василькового неба. Солнечный зимний день оказывается настолько привлекательным для игр и забав, так и манит на улицу, что ребенку невозможно усидеть дома. Можно обратить внимание на то, что, хотя в стихотворении всего два главных героя: мальчик Гриша и созданная им Снежная баба, оно наполнено значительно большим количеством других действующих лиц. Среди них и воробьи на улице, и убежавшая ленивая кошка, и мама, занимающаяся домашними делами, и дедушка, чью шапку забирает мальчик, и дворницкая собака Шавка, и… снег. В одном ряду оказываются люди, животные и неживое, например снежинки: «В васильковом небе вьются / Хороводы снежных мух», пушистый снег, из которого лепит Гриша: «Снег щекочет, снег смешит…» Поэтому и Снежная баба кажется живой. Мороз на улице заставляет переживать мальчика за Снежную бабу и мешает ему спать. Гриша находит свой способ помочь замерзающей, с его точки зрения, Бабе: в доме собираются все теплые вещи: «Взял в охапку / Кофту, дедушкину шапку, / Старый коврик с сундука, / Два платка. / Чью-то юбку из фланели…» [10; 23].
События разворачиваются стремительно: необходимо торопиться, ведь Снежная баба мерзнет: «И скорей-скорее в сад…» Мальчик разговаривает с ней, как с любой другой игрушкой, которая для каждого ребенка представляется другом. Только когда Снежная баба одета, укутана, мальчик может успокоиться. Неважно при этом, что «Торопился – перепутал, / Все равно ведь, ей тепло: / Будет юбка на груди, / Или кофта позади…» [10; 23].
Поэтический и одухотворенный образ ребенка, увлеченного игрой, оказывается в центре детской поэзии Саши Черного. Ребенок на его «Детском острове» безмерно счастлив, не случайно название первого раздела «Веселые глазки». В этом мире самые большие страхи связаны с петухом («Плакса») или с лягушкой, которая пока таинственный и непонятный зверь для маленького ребенка, открывающего мир («Храбрецы»), и испугавший зимним вечером ватагу ребят волк оказывается деревенским Барбосом («Волк»), а прополка огорода приносит радость детям и тоже становится игрой («В огороде»).
Этот мир детскоцентричен. Детский остров наполнен жизнью ребенка, тем, что интересует и волнует его: проблемами, заботами, радостью и увлечениями. Жизнь и мир даны через восприятие ребенка, хотя представлены две точки зрения: ребенка на мир и взрослого на ребенка. Взгляд взрослого – это любящий, нежный и трогательный авторский взгляд на своих героев. Сентиментальные чувства растроганности и умиления пронизывают весь поэтический сборник. Это принципиальная позиция поэта, можно видеть, как он иронизирует над сентиментальными чувствами во взрослом творчестве.
Почему такая идиллия царит на детском острове, почему ребенок в мире Саши Черного принципиально счастлив? Ответов подобрать, наверное, можно много. В частности, неоднократно высказывалась мысль об отсутствии у поэта собственного счастливого детства, в противовес которому и создается гармоничный мир его детских стихотворений. Или о желании спрятаться от жизненных неурядиц окружающей его действительности и на контрасте с окружающим миром боли и страданий создать мир света и радости. Или о нереализованности в жизни отцовского чувства. А возможно, его поэтическое слово определяла любовь к маленьким человечкам, трогательное, нежное чувство, которое сквозит в каждом его произведении и которое позволяет чувствовать, понимать ребенка, находить с ним контакт, вызывать его доверие и привязанность.
В своих воспоминаниях о жизни русской колонии на берегу Средиземного моря в Ла-Фавьере Л. С. Врангель пишет: «Саша Черный, известный поэт и беллетрист, был душой нашего общества, особенно наших детей, которые любили его и которых любил и он и им отдавал свои лучшие досуги. По вечерам, особенно когда море поблескивало отблесками луны, на затихшем пляже собирались все дети около Саши Черного, жгли костры, жарили шашлыки, приправленные неиссякаемыми остроумными и художественными песенками и рассказами Саши Черного; дети вторили ему и пели смешные, веселые его песенки» [2; 151]. Возможно, в последние годы жизни Саша Черный приблизился к тому, к чему стремился в своих произведениях, – к морю, солнцу, покою, общению с маленькими человечками, ощущению радости бытия.
Список литературы Автор и его герои в поэтическом сборнике «Детский остров» Саши Черного
- Саша Черный. «Детский остров». Изд-во «Слово», Берлин, 1920//Русская книга. 1921. № 2. С. 10.
- Врангель Л. Ла-Фавьер//Возрождение. Париж. 1954. № 34. С. 145-153.
- Даманская А. Волшебный остров//Народное дело. 1921. 8 февраля.
- Дроздов А. Сашин остров//Голос России. 1921. 8 января.
- Зеньковский В. В. Психология детства. Екатеринбург: Деловая книга, 1995. 350 с.
- Иванов А. С. Волшебник//Черный. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 2007. С. 523-548.
- Парчевский К. Путь поэта//Последние новости. 1932. 7 августа.
- Приходько В. Он зовется «Саша Черный».//Саша Черный. Что кому нравится. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 5-15.
- Путилова Е. Русская поэзия детям//Русская поэзия детям. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 5-48.
- Черный С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: Эллис Лак, 2007. 671 с.