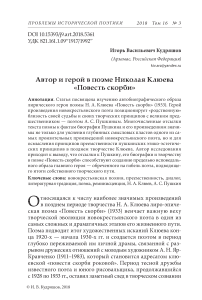Автор и герой в поэме Николая Клюева "Повесть скорби"
Автор: Кудряшов Игорь Васильевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению автобиографического образа лирического героя поэмы Н. А. Клюева «Повесть скорби» (1933). Герой произведения новокрестьянского поэта позиционирует «родственную» близость своей судьбы и своих творческих принципов с великим предшественником - поэтом А. С. Пушкиным. Многочисленные отсылки текста поэмы к фактам биографии Пушкина и его произведениям значимы не только для уяснения глубинных смысловых пластов одного из самых пронзительных произведений новокрестьянского поэта, но и для осмысления принципов преемственности пушкинских этико-эстетических принципов в позднем творчестве Клюева. Автор исследования приходит к выводу, что отсылки к Пушкину, его биографии и творчеству в поэме «Повесть скорби» способствуют созданию предельно исповедального образа главного героя - обреченного на гибель поэта, подводящего итоги собственного творческого пути.
Новокрестьянская поэзия, преемственность, диалог, литературная традиция, поэма, реминисценция, н. а. клюев, а. с. пушкин
Короткий адрес: https://sciup.org/147226169
IDR: 147226169 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2018.5361
Текст научной статьи Автор и герой в поэме Николая Клюева "Повесть скорби"
Относящаяся к числу наиболее значимых произведений в позднем периоде творчества Н. А. Клюева лиро-эпическая поэма «Повесть скорби» (1933) венчает важную веху творческой эволюции новокрестьянского поэта в один из самых сложных и драматичных этапов его жизненного пути. Поэма подводит итог художественных исканий Клюева конца 1920-х — начала 1930-х гг. и создается поэтом в период глубоко переживаемой им личной драмы, связанной с разрывом дружеских отношений с молодым художником А. Н. Яр-Кравченко (1911–1983), который становится адресатом клю-евской «повести скорби роковой». Период тесной дружбы известного поэта и юного рисовальщика, продолжавшийся с 1928 по 1933 гг., оставил заметный след в творческом сознании обоих художников, и особенно Клюева, для которого молодой художник стал «героем его последнего лирического романа» [Михайлов, 1999: 54], как в лично-биографическом, так и, конечно же, в творческом плане. В одном из писем того периода, обращенном к молодому другу-живописцу, поэт искренне признавался: «Ни одна минута, прожитая с тобой, не была не творческой» (цит. по: [Кравченко: 156]). Годы их тесного общения, продолжавшегося более пяти лет, были необычайно плодотворными и для олонецкого поэта, и для нежно опекаемого им друга. Отношения с Анатолием Яр-Кравченко вдохновили Клюева на создание многочисленных поэтических произведений, преимущественно любовно-философской лирики, таких как «С тобою плыть в морское устье…» (1929–1932), «Вспоминаю тебя и не помню…» (1929), цикла стихотворений «О чем шумят седые кедры» (1930–1932) и др., а близкое общение Анатолия с поэтом подвигло молодого художника написать, в частности, общеизвестный портрет Сергея Есенина в рост, приобретенный в 1930 году Пушкинским домом [Николай Клюев. Воспоминания…: 754–755], и серию изображений своего старшего друга-наставника, благодаря которым, при известных стараниях и рекомендациях со стороны опекавшего его Клюева, начинающий портретист оказывается в кругу художественной столичной элиты [Базанов: 227–229], [Михайлов, 1993: 165].
Как справедливо отметил А. М. Михайлов, для творчества Николая Клюева конца 1920-х — начала 1930-х гг. характерно «сближение» адресата посвящений Клюева и их героя, а образ поэта в значительной мере наделяется автобиографическими чертами (см.: [Михайлов, 1999: 54–56]). Эта особенность художественного сознания Клюева наглядно демонстрирует повышенное внимание новокрестьянского поэта к вопросу идентификации собственной творческой личности. Проблема самоидентификации в поэзии Клюева конца 20-х — начала 30-х гг. становится ключевой, а ее художественное решение в поэме «Повесть скорби» мотивирует пушкинское «присутствие» в тексте данного произведения. Для новокрестьянского поэта Пушкин — непревзойденный гений, определивший вектор развития отечественной словесности, недосягаемый эталон, по отношению к которому Клюев в «Повести скорби», благодаря тесному (по выражению Клюева, «сродственному») сближению героя-поэта и автора, идентифицирует и собственную жизнь, и собственное творчество. Поэтому всестороннее осмысление именно пушкинских отсылок в тексте клюевской поэмы отчетливо проясняет как глубинные («поддонные») смысловые уровни произведения, так и ярко характеризует особенности художественного сознания «овинного поэта» в поздний период творчества.
Отметим также, что нашедшее выражение в «Повести скорби» глубокое религиозно-философское осмысление Клюевым понятия дружбы и ее утраты близко концепции известного русского мыслителя, священнослужителя и ученого П. А. Флоренского (1882–1937), изложенной им в сочинении «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (1914). В нем автор, рассуждая о сущности фундаментального понятия любви, выдвигает тезис о том, что дружба, равно как и братство, в религиозном понимании этого слова, является выражением «агапической любви» и порождает в сознании друзей «мистическое единство», проникающее «собою все стороны жизни их» [Флоренский: 412–413]. Утрата дружбы, равно как и предательство одного из друзей, трактуется религиозным философом как ужасная духовная катастрофа, сродственная смерти человека:
«Потрясающие стоны 87-го Псалма обрываются воплем, — о друге. Для всяких скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: “быть без друга” таинственным образом соприкасается с “быть вне Бога”. Лишение друга — это род смерти. <…> “Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы между мертвыми брошенный, — как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. <…> Ты удалил от меня друга искреннего: знакомых моих не видно”» [Флоренский: 416–417].
Близость поэтического осмысления дружбы и ее утраты Клюевым с постулатами книги Флоренского объясняется общими православными корнями их концепций, родственной близостью религиозных мировоззрений — с одной стороны, и с другой — определенным влиянием указанного труда философа на поэта. О наличии последнего свидетельствует, в частности, тот факт, что поэт в период создания «Повести скорби» обращался к труду Флоренского и использовал отрывок из него в качестве эпиграфа в стихотворном послании «Моему другу Анатолию Яру». Оно было написано Клюевым всего за месяц до завершения «Повести скорби» — 1 мая 1933 г. и предназначалось тому же адресату, что и поэма.
Работа над обоими произведениями у Клюева шла, вероятно, параллельно, или же создание стихотворения, обращенного к другу, непосредственно предшествовало написанию «роковой повести». В стихотворном послании к Анатолию Яр-Кравченко поэт в качестве эпиграфа берет достаточно объемную цитату о духовно-нравственном значении утраты дружбы из сочинения Флоренского (в частности, из «Письма двенадцатого: Ревность» и «Письма одиннадцатого: Дружба» с перестановкой предложений), указывая не только ее источник (автора и названия его труда), но и нумерацию страниц издания Флоренского 1914 г., откуда данный текст им был заимствован. Сделано это было поэтом, по-видимому, с целью облегчить ее нахождение в книге для неискушенного в философии молодого друга. При этом цитата из труда Флоренского, помещенная Клюевым в качестве эпиграфа к своему стихотворному посланию, незначительно была изменена — перестановкой последовательности предложений — для того, чтобы отразить последовательность трагического разрыва отношений, которые закономерно заканчиваются вопиющими стонами умирающего псалмопевца о друге. В итоге эпиграф приобрел следующий вид:
«Сердце, изъязвленное Другом, не залечивается ничем, — кроме Времени да Смерти. Но Время стирает язвы его, удаляя и больную часть сердца, — частично умерщвляет, — а Смерть изничтожает всего человека. Поскольку жив, стало быть, человек, постольку неисцельны и болезненны раны его от дружбы и будет он ходить с ними, чтобы явить их Вечному Судие. С. 476
Для всех скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой-то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: “быть без друга” таинственным образом соприкасается с “быть вне Бога”. Лишение друга — это род смерти.
Потрясающие стоны 87-го Псалма обрываются воплями о друге: “Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как человек без силы между мертвыми, брошенный, — как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, Господи. Ты удалил от меня друга искреннего: знакомых моих не видно”. С. 416–417 »1.
Обращение Клюева в начале 30-х гг. к труду Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» и родственная близость религиознофилософского осмысления понятия дружбы православным мыслителем и новокрестьянским поэтом дает основание говорить о влиянии труда Флоренского на творческое сознание Клюева. Это влияние оставило свой след в том числе в художественной ткани поэмы «Повесть скорби» и отразилось на образе ее главного героя.
Текст поэмы-послания Клюева «Повесть скорби» предельно исповедален, а ее лирический герой максимально сближен с автором произведения. «Повесть скорби» — это исповедь поэта, переживающего тяжелейший духовно-эмоциональный кризис, порожденный утратой дружбы. Фокус внимания героя-повествователя поочередно меняется: то он сосредоточен на настоящем, когда катастрофический разрыв с «другом искренним» уже произошел, то обращается в воспоминаниях («видениях») к счастливым моментам, когда его жизнь была преисполнена творчеством, порожденным дружбой с молодым художником Анатолием Яром. Особо подчеркнем, что в «Повести скорби» лежащие в основании творчества дружеские отношения преподносятся героем-поэтом, а посредством него и автором, как своего рода сакральный, порождающий красоту акт сотворчества.
Пространство «настоящего» мира (в отличие от мира видений-воспоминаний) наполнено для клюевского героя, потерявшего
«дружбы сумеречной розан», зловещими звуками и ужасающими образами смерти, такими, как « хохот каторжных цепей » и пляска « налегке » костей. Лишившись жизненно необходимых отношений с другом, герой-поэт вместе с тем теряет способность созидать прекрасное, а соответственно, утрачивает смысл своего земного существования, что для творческой личности поэта сродни смерти:
«В мешке два сердца человечьих, Пригоршня ладана и свечи!
Кому достанется мешок? — Поэту ль за отару строк, Похожих на чирят болотных?..
Поблеклым вереском да воском Я расшиваю повесть скорби, — Лазорь и шелк уснули в торбе, Им не пойти стихом вприсядку» (696–697).
Для клюевского героя «лишение друга — род смерти», что всецело соотносится со взглядами Флоренского на дружбу и ее утрату. Без друга герой поэмы теряет свой песнотворческий дар, с горечью восклицая: «Мои стихи теперь — опенки / Без самоцветного лосенка…» (699), — а вместе с ним останавливается течение жизни. Окружающий мир рождает в герое чувства невозвратимой потери, бесконечного одиночества и неизбежности собственной гибели:
«Уж не сирень, а скрип обоза
Осиным роем бьет в окно, — Везут парчу и полотно
Да три доски всегда готовых» (697).
Пушкинское присутствие в клюевском тексте обнаруживается в тот момент, когда лишившийся друга герой-поэт оказывается лицом к лицу со смертью, что закономерно мотивирует его обращение к оценке собственного творчества. В приведенных выше строках из поэмы образ скрипящего обоза (группы повозок, перевозящих кладь) коррелирует с известным пушкинским образом телеги жизни из одноименного стихотворения 1823 г.:
«Катит по прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега —
А время гонит лошадей»2.
И пушкинский, и клюевский герои примирились с неумолимым ходом событий, приближающих смерть, и не предпринимают попыток отсрочить неизбежное. Вместе с тем поэтические интерпретации обоза у Клюева и телеги жизни у Пушкина разнятся. Так, лирический герой пушкинского произведения, несмотря на то, что он является всего лишь «пассажиром» телеги, все же способен влиять на события, связанные с ее движением. Он так или иначе взаимодействует с «лихим ямщиком»-временем — то подгоняет его, то пытается замедлить:
«Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел <, ебёна мать>!
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!» (II, 306).
Герой же клюевской поэмы, напротив, предстает сторонним наблюдателем, покорно ожидающим скорого приближения погребального обоза, управляемого неведомыми ему силами. Он достоверно осведомлен о том, что в обозе везут гробовые доски и ритуальные принадлежности для обряда его похорон. У Пушкина катящаяся по косогорам и оврагам «телега» в большей степени символизирует скоротечность жизни человека (телега жизни), в то время как у Клюева скрипящий «обоз» — это символ неотвратимости смерти (обоз смерти).
От невыносимой тоски по другу и от тягостного предчувствия скорой гибели герой-поэт, изливающий читателю свою «повесть скорби», ищет спасения и защиты в дорогих его сердцу «образах былого», которые облачены в праздничные
« одежды звездно-позолотные ». Воспоминания о наполненных золотым светом и творческим вдохновением счастливых днях жизни с другом у героя настолько сильны и явственны, что на время затмевают собой полную горечи и скорби реальность. Создавая полное впечатление объективной действительности, они становятся для героя видением наяву. Контраст между устрашающей героя реальностью и «звездно-позолотным» видением, базирующийся на противопоставлении «город— природа», обогащается в клюевской поэме новыми оттенками и приращением смыслов за счет авторских отсылок к пушкинскому творческому наследию. В «Повести скорби», как и в поэме «Плач о Сергее Есенине» (1926), Клюев прибегает к использованию инвертированных, «перевернутых» пушкинских образов (см.: [Кудряшов, 2008: 228–242], [Кудряшов, Полякова, 2018: 201–213]). Так, образ лесной избушки в глубине заповедного леса отсылает ассоциативную память читателя к образу шалаша, в который попадает в своем вещем сновидении Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин». Кошмар пушкинской героини, наполненный демоническими созданиями, инвертирован Клюевым в поэме в видение героем-поэтом предельно умиротворенной и полной волшебства картины. В отличие от пушкинской Татьяны, находящейся во враждебном, полном неведомой опасности лесном пространстве, клюевский герой-поэт в своих видениях пребывает в дружеском мире, недоступном для проникновения извне любого зла, враждебного счастью дружелюбия.
Пушкинское влияние обнаруживается и в клюевском образе дружелюбного медведя, который соотнесен по принципу зеркальной симметрии с враждебным образом хозяина леса из сна Татьяны Лариной. Если в пушкинском романе медведь изображен как недобрая, устрашающая сила, то в клюевской поэме, напротив, он выступает в роли доброго, мудрого и заботливого хозяина заповедной чащи, одного слова которого достаточно для того, чтобы оградить дорогое для него существо от любых опасностей, таящихся в «пуще северной еловой»:
Пушкин
Клюев
Он (медведь. — И. К .) мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой; Кругом все глушь; отвсюду он Пустынным снегом занесен, И ярко светится окошко, И в шалаше и крик, и шум <…> Опомнилась, глядит Татьяна: Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах
<…> за столом
Сидят чудовища кругом: Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой, Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там карла с хвостиком, а вот Полу-журавль и полу-кот (VI, 103–104).
И с той поры в ольховой хмаре, За кружкой меда у медведя, Барсук-лаптюга, рысь-редедя За первопуток правят сплетки, Что от загадочной находки Не спится старому ручью.
И в жемчуговую избушку, Где сны и песни в кулебяках, Лосенку тропка в синих маках, — Порукою медвежье слово!.. (697–698).
Клюевская трактовка образа медведя обусловлена авторским стремлением подчеркнуть заявленный в «Повести скорби» контраст между мрачной действительностью и «звезднопозолотным» видением, в котором ищет спасительного прибежища герой поэмы, и восходит к биографическому «“природно-звериному” мифу», создававшемуся самим поэтом (см: [Кравченко: 103], [Маркова, 2009], [Маркова, 2010: 48–55]). В этой связи показательно письмо к Анатолию Яр-Кравченко от 10 мая 1932 г., в котором Клюев именует себя медведем, а адресата послания — ласточкой:
«…я <…> мшистая, кряковистая коряга, под которой издыхает последний житель лесов медведь — мое сердце. Медведь дыхами, сапом и хриплым стоном, утирая лапой смолистые черные слезы, зовет свою ласточку <…>. В эту зиму я подлинно медведь-шатун»3.
Источники ключевых образов из «звездно-позолотного» видения героем-поэтом своего прошлого коренятся в реалиях биографии Клюева. Так, « жемчуговая избушка », бережно охраняемая ведуном-медведем, не является целиком вымышленным образом, но имеет реальный первообраз, непосредственно соотнесенный с фактами личной жизни поэта. Образ «милого дома», сокрытого от остального мира в заповедной чаще, рожден воспоминаниями Клюева о вятской деревне Потрепухино, которая для поэта не единожды становилась местом летнего отдыха, «глубокого хвойного уединения» и творческого подъема (см. об этом: [Кравченко: 65]). Именно там в полной мере «находит свое отражение и клюевский девиз жизни и творчества — <…> “…жить около города, в деревне, на берегу реки, недалеко от леса и в простой крестьянской избе”» [Кравченко: 32]. Свидетельства счастливых дней жизни и творчества Клюева на «сказочной» Вятке сохранили как эпистолярий поэта, так и его творчество: «Я на реке Вятке — место упоительное, на высоком берегу, вокруг боры, синие леса. Красота величавая и подлинно русская» (цит. по: [Кравченко: 33]); «Я сам, еще недавно укрепляющий людей в их горе, уже четыре раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слез удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую губ<ернию>, ведь там еще не изгладились следы дорогих для меня ног» (цит. по: [Кравченко: 176]); «И веет свежестью речной, / Плотами, теплою сосной, / Как на влюбленной в сказку Вятке» (582) и др. Вполне закономерно, что идиллический образ вятской деревни Потрепухино, в которой некогда любили проводить летние месяцы известный поэт и молодой художник, возникает и в тексте «роковой повести» о лишении «друга искреннего»: «На Вятке розовы березки, / И горница на зори дверью» (700).
Для Клюева было важно, чтобы адресат поэмы художник Анатолий Яр-Кравченко оживил воспоминания, связанные с неизменно счастливым и полным творчества временем их совместного пребывания в Потрепухино. Борис Кравченко, который вместе с братом Анатолием и Николаем Алексеевичем проводил летние месяцы на Вятке, вспоминал о творческой работе поэта и юного художника в Потрепухино: «…последо-вала увлеченная работа Анатолия над портретами самого Клюева. <…> Частично велась она в Ленинграде <…>, а частично в селе Потрепухино на реке Вятке. Это село Николай Алексеевич шутливо называл “нашей резиденцией”, имея в виду себя, Анатолия и меня. <…> В бане Клюев любил отдыхать и уединяться, работая над стихами» [Кравченко: 83]. Творческую работу как Анатолия, так и Николая Алексеевича на Вятке, если ее охарактеризовать по источнику, питающему вдохновение как молодого художника, так и маститого поэта, уместнее было бы назвать сотворчеством, в основе которого лежат глубокие интимные и доверительные взаимоотношения этих двух неординарных личностей. Поэзию Клюева начала 30-х гг. одухотворяли интимные отношения к «другу искреннему», портретное творчество которого, в свою очередь, неповторимо запечатлело для потомков близкий сердцу художника образ поэта. Влияние Клюева, существенным образом сказавшееся на творчестве Яр-Кравченко, выразилось в том, что старший друг стал для него высоким примером беззаветного и самозабвенного служения музе. Об этом наглядно свидетельствуют записи Анатолия 1931 г., сделанные им в Потрепухино, запечатлевшие Клюева в моменты его поэтической работы: «…я увидел, что он (Клюев. — И. К.) занят. Весь в думах, в сравнениях, стихах» [Кравченко: 87]; или, например, зафиксированные Яр-Кравченко в записной книжке слова поэта, сказанные им после курьезного случая потери замка от дома, в котором они жили: «Он (Клюев. — И. К.), чуть не плача, сказал: — Все стихи виноваты. Когда я пишу, я могу сказать что-то кому-нибудь или ответить — и забыть. <…> Нет, после еды я не могу писать. <…> И на реке не могу. Только на тропинке. Хожу и слагаю. Чтоб полный покой. И ничто бы не отвлекало» [Кравченко: 87].
Душевная рана, нанесенная герою клюевской поэмы «другом искренним», мучительна, «неисцельна», и ни грезы наяву, ни память о светлых и беспечальных днях дружеской влюбленности неспособны смягчить ее бесконечную боль и облегчить роковую участь страдающего поэта. Безутешная скорбь героя «повести» гибельна и предопределена неизбежностью его трагической судьбы. Он не в состоянии противостоять губительной силе, отнявшей у него друга, которая заключена в страшном и мрачном городе, наполненном вьюгой и демоническими сущностями, такими как «колтун с собачьей пар-хой» и «пляшущие кости» в «подземном адском кабачке». Образы пурги и нечистой враждебной силы отсылают ассоциативную память читателя к тексту пушкинского стихотворения «Бесы», лирический герой которого, подобно другу клюевского героя-поэта, сбился с пути во время сильной метели, порожденной вихревыми движениями бесов, грозящей путнику гибелью:
Пушкин
Клюев
Пусть эти руны, как селенье, В ночи приветным огоньком Тебя поманят в милый дом… (698).
Гранитной лапе до зверей, До птиц с цветами нету дела, —
Она в пурге осатанелой Качает маятник луны (700).
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сбились мы. Что делать нам! В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре… (III, 226–227).
При сравнении текстов двух поэтов обращает на себя внимание тот факт, что пушкинский герой сбился с пути на открытом пространстве (в поле, «средь неведомых равнин»), в то время как друг клюевского героя заблудился в замкнутом пространстве мрачного зимнего города Ленинграда, что мотивировано спецификой этико-философской концепции творчества новокрестьянского поэта, для которой характерно противопоставление города человеку и природе. В поэме «Повесть скорби» образ враждебного человеку города, характерный для клюевской поэзии в целом, обогащается за счет привнесения негативных коннотаций, сформировавшихся в творческом сознании поэта после известных событий, связанных с трагической гибелью близкого друга, «меньшого брата» и нашедших художественное выражение в поэме 1926 г. «Плач о Сергее Есенине» [Кудряшов, 2015a: 377–385]. В письмах, адресованных Анатолию, Клюев часто выражает тревогу за своего юного друга, учившегося в начале 30-х гг. искусству живописи в Ленинграде. Поэт «беспокоится молчанием» Анатолия, болезненно волнуется о том, что юноша может попасть, по его мнению, в дурные компании или совершить опрометчивый поступок [Кравченко: 139–165]. После окончательного переезда Клюева на жительство из Ленинграда в Москву его переживания о судьбе Анатолия лишь усугубляются по мере того, как утрачивается доверительная искренность дружеских отношений художника к поэту. По мнению Т. А. Кравченко и А. И. Михайлова, «безоблачную дружбу <…> разъедают неизбежные и частые разлуки, вековечные сплетни», к тому же через несколько лет вполне закономерно «младшему приспело время, увы, выйти из притяжения ее чар, тогда как старший готов цепляться и надеяться» [Кравченко: 123, 159]. В этом аспекте взаимоотношения Клюева с Анатолием Яр-Кравченко повторяют историю его «дружбы-вражды» с Сергеем Есениным.
Противопоставленный лесной вятской «сказке» город Ленинград в «Повести скорби» олицетворяет страшного Зверя, наделенного дьявольской силой, которому невозможно противостоять обычному человеку. Перед его мощью меркнут даже светлые воспоминания героя-поэта о лесной вятской «сказке». Город-дьявол стремится разлучить и в итоге разлучает героя-поэта с его «другом искренним»:
«Гранитной лапе до зверей, До птиц с цветами нету дела, — Она в пурге осатанелой Качает маятник луны» (700). «… Ленинград луну качает, Как маятник, гранитной лапой.
Но лапа подымает вой,
И гаснет золото виденья…» (698).
Заглавие поэмы Клюева «Повесть скорби» и ее трагический пафос, обусловленный роковой предопределенностью, родственно сближают ее с поэмой «Медный всадник», как известно, наделенной Пушкиным подзаголовком «Петербургская повесть». Оба произведения — это «повести роковые» о героях, лишившихся своих близких и пытающихся вернуться в свое прошлое (в «ветхий домик»), но обреченных страшной неведомой силой Петербурга (Ленинграда) на мучения и смерть.
В финале клюевской поэмы в образе Ленинграда отчетливо проступают черты Петербурга из пушкинской «повести». Такая яркая деталь ленинградского пейзажа, как адмиралтейская игла, вплетенная Клюевым в художественную ткань «роковой повести», непосредственно отсылает читательскую память к ставшему хрестоматийным пушкинскому описанию северной столицы:
«И светла
Адмиралтейская игла…» (V, 136).
Картина Ленинграда в поэме «Повесть скорби» прямо апеллирует к пушкинскому описанию Северной столицы в поэме «Медный всадник» и, в частности, к изображению Невы накануне наводнения, по вине которого пушкинский Евгений, равно как и герой клюевской поэмы, теряет дорогого ему человека.
Пушкин
Печален будет мой рассказ. <…> Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумною волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной (V, 137–138).
Клюев
От невской пасмурной волны И от иглы адмиралтейской Питаться повестью злодейской Тебе, как Дантесу, не внове… (700).
Однако, в отличие от пушкинского Евгения, клюевский герой-поэт не винит в своей утрате неподвластные стихийные силы природы. Он справедливо возлагает всю полноту ответственности за собственную гибель на отдалившегося от него друга, прототипом которого стал Анатолий Яр-Кравченко. Убийственные обвинения героем-поэтом своего друга, вероятно, восходят к вполне конкретным биографическим фактам: молодой художник совершил поступок, грозивший поэту самыми серьезными последствиями и гибелью. Так, в письме от 18 мая 1933 г. Клюев, уже попавший в немилость к официальным властям, скорбно упрекает Анатолия за подпольное распространение текста поэмы «Песнь о Великой Матери», что, по убеждению поэта, сродни коварному предательству дружбы и даже брато- и отцеубийству. Клюев всячески стремится подчеркнуть преступную тяжесть деяния Яр-Кравченко, совершенного им смертного греха, именуя адресата своего послания «братом» и «пестованным дитятко» и заостряя внимание на невозможности искупления содеянного: «…ты убил меня и поэму зверским и глупым образом. <…> То, что не удалось моим черным и открытым врагам, сделано и совершено тобой — моим братом. <…> не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил меня последнего куска хлеба, следом за этим — пуля или веревка <…>. Дитятко мое пестованное, заветное, куда ты идешь? Ведь кровь мою не отмыть тебе вовеки» [Кравченко: 157–158]. Эти строки из письма Клюева проливают свет на совершенную перемену, которая происходит в «Повести скорби» с «другом искренним»: из «самоцветного лосенка, / Что в сердце искупал копытца» (699) он превращается в того, кому «питаться повестью злодейской / <…> как Дантесу, не внове» (700), т. е. в коварного и бесчувственного убийцу поэта. «Взгляни, росинка свежей крови / Горит и на твоей перчатке!» (700), — восклицает клюевский герой-поэт, обращаясь к нанесшему ему смертельную душевную рану другу. Заметим, что сходное обращение лирического героя-поэта к «меньшому брату», предавшему их общие идеалы, содержится в клюевском цикле стихотворений «Поэту Сергею Есенину», написанном в период охлаждения отношений между поэтами. В «самом личном, интимном и горестном» стихотворении «Ёлушка-сестрица…» (1917), вошедшем в цикл, Клюев, сильно переживавший в это время разрыв отношений с «младшим братом», проводит поэтическую аналогию Есенина с убийцей Годуновым, а своего лирического героя с «убиенным Митрием» (см.: [Кудряшов, 2015b: 59–65], [Кудряшов, 2018: 157–164]). Образ «свежей крови», символизирующий преступное убийство невинного героя, здесь также возникает в кульминационный момент развития лирического сюжета:
«Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова, Я в глуши еловой Восприму покой» (301).
В «Повести скорби», по мнению редакторов-составителей книги «Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре», «сравнивая своего любимца с Дантесом, автор скорбит о том, “что ангел с облачною ветвью обратился в кобеля” и его облик в будущем будет очерчен “уж не иконной нежной вапой… А головней из кабака…”» [Кравченко: 165]. В то же время сравнение «друга искреннего», совершившего предательство и тем самым обрекшего поэта на гибель, с Дантесом закономерно рождает аналогии главного героя «роковой повести» с Пушкиным. С учетом исповедально-биографического характера поэмы и нарочито близкой родственной связи ее героя-поэта с автором возникшая пушкинская аналогия приобретает ключевое значение в аспекте оценки Клюевым собственного жизненного пути и значения своего творчества:
«Прости, Владычица, меня!
Я твой в рубахе пестрядинной, Поэт посконный и овинный, Но Пушкину сродни звездой … » (700–701).
В этих финальных проникновенных строках «Повести скорби» от лица гибнущего героя-поэта Клюев смело и недвусмысленно заявляет о своей сродственной связи с Пушкиным. Своеобразным «ключом» к расшифровке этих строк о родственной близости с великим предшественником, способствующим осмыслению всего комплекса коннотаций
(«поддонных» смысловых пластов), служит многозначный образ-символ звезды.
Образное определение значения А. С. Пушкина «Солнце русской поэзии», восходящее к краткому извещению о смерти великого поэта, напечатанному 30 января 1837 г., на следующий день после его кончины, в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» известно всем со школьной скамьи [Одоевский: 48]. Вместе с тем непривычное для слуха поэтическое сравнение Клюевым значения пушкинского гения со звездой коренится в общеизвестном образном определении значения Пушкина как «солнца нашей Поэзии», так как Солнце — это единственная звезда в нашей Солнечной системе, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, кометы, астероиды и др. На этом основании поэтический образ-символ звезды у Клюева вбирает в себя значение определения «Солнце русской поэзии» и вместе с тем несет новые дополнительные смысловые оттенки: сияние всех небесных тел нашей Солнечной системы в ночном небе, как общеизвестно, обусловлено отражением солнечного света. Если вслед за Клюевым провести аналогию сияния планет в ночном небе с определением значения творчества русских писателей, то выявляется значение: творчество каждого из литераторов, в той или иной степени, лишь преломляет свет от сияния пушкинского гения, озаряющего им путь в литературе. Определяя свое значение на небосклоне русской словесности как «сродственное» Пушкину («Пушкину сродни звездой»), Клюев ни в коей мере не претендует занять место «Солнца русской поэзии». Напротив, с гордостью заявляя о своем «сродстве» с Пушкиным, поэт тем самым утверждает непререкаемость авторитета и немеркнущее сияние славы своего великого предшественника. Клюев декларирует, несмотря на то, что он «посконный и овинный», схожесть с Пушкиным своим значением как главы новокрестьянской плеяды поэтов. Он заложил основание нового литературного течения в русской словесности, сплотившего поэтов-выходцев из крестьянской среды, что, по сути, явилось серьезной попыткой создания новой национальной поэзии на основе фольклорной традиции и традиции классической русской словесности. И эта исключительная заслуга поэта Клюева, справедливо, «сродни» великому значению гения Пушкина и его народной славе.
Попутно заметим, что определенное сходство с фактами биографии Пушкина обнаруживается и в истории отношений Клюева и Яр-Кравченко, которая легла в основу поэмы «Повесть скорби». Так, общеизвестно, что одной из причин, побудивших Пушкина к дуэли, послужил полученный им 4 ноября 1836 г. анонимный пасквиль, содержавший оскорбительные намеки на неверность Натальи Николаевны Гончаровой. В истории трагического разрыва отношений известного поэта и молодого художника свою роковую роль также сыграло оскорбительное послание. Оно стало своеобразной точкой отсчета последовавшей череде фатальных событий и сопутствующих им интриг в судьбе поэта, окончившейся его гибелью от пули палача в одной из томских расстрельных ям. Клюев получает его от Зинаиды Воробьевой (впоследствии — первой жены А. Н. Яр-Кравченко), которая «с некоторой угрозой» [Кравченко: 157] недвусмысленно требовала от поэта прекратить любые отношения с ее возлюбленным — Анатолием, бравируя «законами революции и диалектики» [Кравченко: 157], которые однозначно были не на стороне к этому времени уже опального поэта. Последний роковой этап жизни Клюева и обстоятельства его трагической смерти, волею Провидения, в своей сущностной основе, спустя столетие, повторили гибельный путь великого поэта. Это позволяет говорить о «сродстве» судеб этих двух крупных творческих личностей. Не углубляясь в тему сходства биографий поэтов, отметим, что многочисленные аналогии фактов жизни Клюева и Пушкина требуют отдельного системного научного анализа, который не входит в ограниченные темой рамки данной работы.
Творческое осмысление трагической судьбы Пушкина в «Повести скорби» несет и религиозный оттенок, который проявляется в том числе и в библейской аналогии образа-символа пушкинской «звезды». В Новом Завете Вифлеемская звезда на небосклоне возвестила о рождении Христа и побудила волхвов начать паломничество к месту его рождения.
Для культуры Серебряного века Пушкин был, бесспорно, знаковой, центральной фигурой, служившей неоспоримым этико-художественным ориентиром (своего рода «путеводной звездой») для деятелей национального искусства, несмотря на то, что, как общеизвестно, были и те ее представители, которые в самом начале прошлого столетия жаждали сбросить его «с парохода современности». В то же время показательно, что уже в 20-х гг. ХХ века творческая интеллигенция, по воспоминаниям писателя В. Т. Шаламова, ожидала (подобно библейским волхвам) появления нового гения, равного Пушкину: «Тогда все ждали прихода Пушкина. <…> сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения» [Шаламов: 78]. Клюев, несомненно, относился к тем представителям творческой интеллигенции, кто не ждал, а неукоснительно следовал за «путеводной звездой» национального гения, служащего для него художественным ориентиром, начиная уже с первых самостоятельных шагов на литературном поприще, о чем свидетельствует его дебютный поэтический сборник «Сосен перезвон», увидевший свет в 1911 г. (см.: [Кудряшов, Клевач-кина, 2012: 341–345]).
Трагический финал «Повести скорби» выходит далеко за рамки глубоких интимных переживаний героя-поэта из-за утраты «друга искреннего». Разрастаясь по мере развертывания сюжета, трагедия достигает эпических масштабов. Роковая гибель героя-поэта, значение которого сродни пушкинскому гению, возводится Клюевым в ранг национальной катастрофы, последствия которой самым серьезным и разрушительным образом скажутся на национальной словесности и на отечественной культуре в целом. Смерть поэта, «сродственного» (схожего) значением Пушкину, для творческого сознания автора «Повести скорби» — невосполнимая утрата для культуры, событие национального масштаба, достойное художественного воплощения в лиро-эпическом жанре поэмы.
Таким образом, текстовые отсылки к Пушкину, его биографии и творчеству, в поэме Клюева «Повесть скорби» способствуют созданию образа главного героя — обреченного на гибель поэта, подводящего итоги собственного творческого пути. Тесное сближение героя-поэта, позиционирующего «родственную» близость своей судьбы и своих творческих принципов с пушкинскими, и ее автора позволяет заключить, что гений Пушкина для Клюева в последние творческие годы выступает единственным верным мерилом для определения значения собственного вклада в национальную сокровищницу культуры. В поэме «Повесть скорби» Клюев оставил потомкам удивительно точное образное определение собственного значения — «Пушкину сродни звездой», — в котором имя великого национального поэта, нарочито поставленное во главу фразы, утверждает Пушкина путеводной звездой, озарявшей его творческий путь и указующей дорогу всей русской поэзии.
Список литературы Автор и герой в поэме Николая Клюева "Повесть скорби"
- Базанов В. Г. С родного берега: о поэзии Н. Клюева. -Л.: Наука, 1990. -241 с.
- Кравченко Т. А., Михайлов А. И. Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре. -М.: Территория, 2006. -304 с.
- Кудряшов И. В. «Бесы» А. С. Пушкина как возможный источник поэмы Н. А. Клюева «Плач о Сергее Есенине»//Пушкин и мировая культура: Материалы восьмой Международной конференции. -Арзамас: АГПИ, 2008. -С. 228-242.
- Кудряшов И. В. Диалог Клюева и Есенина: Пушкинский контекст//Литературное общество «Арзамас»: история и современность. Сб. науч. ст. -Арзамас, 2015. -С. 377-385. (a)
- Кудряшов И. В. Реминисценции «Бориса Годунова» в цикле Н. А. Клюева «Поэту Сергею Есенину»//Современное есениноведение. -2015. -№ 2. -С. 59-65. (b)
- Кудряшов И. В., Клевачкина О. А. Этико-эстетические принципы раннего творчества Н. А. Клюева: сборник «Сосен перезвон»//Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. -2012. -№ 6 (1). -С. 341-345.
- Кудряшов И. В., Полякова О. А. Пушкину сродни звездой: О поэзии Николая Клюева. -Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2018. -288 с.
- Маркова Е. И. Родословие Николая Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. -354 с.
- Маркова Е. И. Принципы создания художественной родословной в творчестве Николая Клюева//Труды Карельского научного центра РАН. Сер. «Гуманитарные исследования». -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. -№ 4. -Вып. 1. -C. 48-55.
- Михайлов А. И. К биографии Н. А. Клюева последнего периода его жизни и творчества. (По материалам семейного архива Б. Н. Кравченко)//Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. -СПб., 1993. -С. 160-183.
- Михайлов А. И. Николай Клюев и мир его поэзии //Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. -СПб.: РХГИ, 1999. -С. 7-74.
- Николай Клюев. Воспоминания современников/. -М.: Прогресс-Плеяда, 2010. -888 с.
- Одоевский В. Ф. Извещение о смерти А. С. Пушкина//Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». -1837. -№ 5 (30 янв.). -С. 48.
- Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. -М.: Путь, 1914. -812 с.
- Шаламов В. Т. Воспоминания; Записные книжки; Переписка; Следственные дела. -М.: Эксмо, 2004. -1066 с.