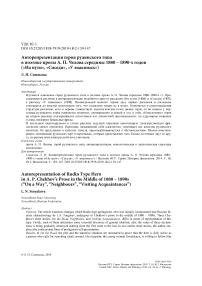Авторепрезентация героя рудинского типа в поэтике прозы А. П. Чехова середины 1880 - 1890-х годов ("На пути", "Соседи", "У знакомых")
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Изучается изменение героя рудинского типа в поэтике прозы А. П. Чехова середины 1880-1890-х гг. Прослеживается различие в авторепрезентации подобного героя от рассказов «На пути» (1886) и «Соседи» (1892) к рассказу «У знакомых» (1898). Исповедальный монолог героев двух первых рассказов в последнем стягивается до пошлой констатации того, что «идеализм теперь не в моде». Изменяется и композиционная структура рассказов: если в первом главенствует монологическая точка зрения героя, то во втором у персонажа рудинского плана появляется оппонент, одновременно судящий и его, и себя. «Измельчание» героя во втором рассказе подчеркивается отсутствием его личностной оригинальности: он удручающе вторичен и лишь повторяет банальные фразы. В последнем анализируемом в статье рассказе ведущий персонаж аннигилирует псевдорудинскую фразеологию своего оппонента. Персонаж, называющий себя идеалистом, утрачивает все качества рудинского метатипа. Он представлен в качестве эгоиста, приспосабливающегося к обстоятельствам. Можно констатировать элиминацию рудинских черт в персонажах, которые представляют хоть близко отстоящие друг от друга, но разные поколения русской интеллигенции.
Проза а. п. чехова, герой рудинского типа, авторепрезентация, монологическая и диалогическая структура композиции
Короткий адрес: https://sciup.org/147220058
IDR: 147220058 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-2-139-147
Текст научной статьи Авторепрезентация героя рудинского типа в поэтике прозы А. П. Чехова середины 1880 - 1890-х годов ("На пути", "Соседи", "У знакомых")
В настоящей статье изучается смысл и ценность – в системе художественного мира А. П. Чехова – идеологических высказываний о самих себе персонажей трех чеховских рассказов: «На пути» (1886), «Соседи» (1892) и «У знакомых» (1898). Предметом нашего анализа является исповедальный монолог героя рудинского плана, теряющего, как мы убедимся, в позднем творчестве писателя позиции идеолога и приобретающего качества не просто «обыкновенного» человека, свойственные частотному чеховскому персонажу, а человека пустого и эгоистичного, своего рода антигероя.
Постановка проблемы явленности чеховского героя в мире и его «слова о себе самом» (М. М. Бахтин) требует, прежде всего, объяснения заглавного характерологического термина. Герой одноименного роман может быть определен, согласно классификации, приведенной в известной речи-статье И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1860), как, в целом, Дон Кихот. В характерологическом алгоритме данного метатипа автор «Рудина» подчеркивает основную черту – энтузиазм: «…веру в нечто вечное, незыблемое, <…> в истину, находящуюся вне отдельного человека, <…> требующую служения и жертв» (курсив автора. – Л. С .) [Тургенев, 1964. С. 173]. Однако вариант этого метатипа – рудинский тип – оказывается нежизнеспособным в культурно-исторической перспективе, что доказал в первую очередь сам его создатель. И корни этой неспособности к участию в текущей действительности сокрыты в психологической неспособности к диалогу – как с Другим, так и с эпохой.
По наблюдению современных исследователей, Рудин представляет собой образец «отвлеченного» человека – нецельного, шаткого и неоконченного [Фаустов, Савинков, 1998. С. 54– 67]. « Отвлеченный герой <…> выброшен из жизни , и если у лишнего человека на земле не было своего места , то человек вообще не может стать участником события бытия» (здесь и далее в этом абзаце курсив авторов. – Л. С .) [Там же. С. 60]. Энтузиазм, направленный на «общее», грозит человеку саморазрушением, утратой чувства жизни: «В историческом плане “безучастность” человека вообще свидетельствует об “апокалиптическом” смешении веков ; в антропологическом – о господстве безразличного к живой жизни ума» [Там же. С. 61]. Примечательно, что Рудин не способен к диалогу – он слышит лишь себя (свои идеи): «Монологическое слово Рудина – даже если это слово о любви – не нуждается в отклике Другого» [Там же. С. 65].
К восьмидесятым годам, эпохе становления художественности А. П. Чехова, базовый термин «лишний человек» и передаваемое им понятие уже устарели («отвлеченный» человек является вариантом «лишнего», обозначающего родовое понятие человека, который испыты- вает разлад с доминантным дискурсом эпохи). «Человек восьмидесятых годов», при всей его апатичности и дезориентированности в окружающем социальном мире, был более устойчив в столкновении с действительностью, нежели человек онегинской и рудинской генераций, поскольку научился ценить личную свободу и – особенно – довольствоваться ею (см.: [Сотникова, 2006]).
Однако Чехов-художник избежал фиксации на типе собственно «восьмидесятника», равно как и на любой другой регламентированной форме личности: «…соединение поэтики углублённого, мучительного не только для автора и героя, но и для читателя психологизма в духе <…> психологии “лишнего” типа, в силу кризисности времени ставшего весьма популярным в 80-е гг., для Чехова было неприемлемо. Чеховский человек текуч и трудно уловим; всякого рода консервация и зависание личности на какой-либо идее в случае Чехова означает уже наступившую или скорую духовную смерть. <…> движение Чехова – это движение эксте-риоризации и выхода за пределы опыта восьмидесятничества…» [Созина, 2006. С. 92].
Предложивший выстраивать типологию чеховских героев «в связи с вариантами разрешения внутреннего конфликта» специалист выделяет пять типов: «футлярный»; «конформист», или «смирившийся»; «опоздавший» (прозревшие слишком поздно); «ошибившийся в способе борьбы» (персонажи, которые не достигли успеха в изменении своей и окружающей жизни); наконец, «активный» [Тимофеев, 2014. С. 84]. В этой классификации заслуживает внимания тип «ошибившегося в способе борьбы» персонажа. Этот тип близок тому, который мы будем рассматривать в двух первых рассказах; персонаж последнего рассказа вынесен за пределы данной таксономии, поскольку, как мы убедимся, не переживает ни внутреннего конфликта, ни психоидеологического кризиса.
Результаты исследования
Исходя из приведенных определений и замечаний остановимся на трактовке образа человека рудинского плана как легко увлекающегося какой-либо идеей, целью и т. п., и так же легко «отпускающего» их; безвольного, но энтузиаста; нереализованного в социальной жизни и неудачливого в жизни частной; неуравновешенного искателя идеала (последний, впрочем, может достаточно быстро меняться), испытывающего смутное беспокойство оттого, что он не в состоянии сразиться с обстоятельствами. В исследуемых нами произведениях важны не столько исповедуемые и проповедуемые героем идеи, сколько его психологическая неготовность к «живой жизни». Заметим, что в последнем рассказе общая и аморфная идея некоего идеализма снижается и превращается в идеологическую позу.
Первый рассказ, в котором тип чеховского героя рудинского плана заявлен в качестве программного, – «На пути». Герой рассказа, Лихарев, настолько явно обозначен как служитель «общей» идеи и духовный скиталец, что и современная писателю критика, и исследователи наших дней указали на его типологическое сходство с тургеневским типом 1. Застрявшие во время метели в «проезжающей» (т. е. предназначенной для путников) комнате придорожного трактира случайные гости – Лихарев с восьмилетней дочерью Сашей и «барышня Иловайская» – ведут поначалу обычный разговор случайных попутчиков. Время рассказа – рождественский сочельник – знаменательно ожиданием преображения обычных вещей в необычные (необходимый атрибут и одно из сакральных значений Рождества – предощущение чуда) [Капинос и др., 2006] 2. Понемногу беседа утрачивает экстенсивность: теперь в структуре сообщения присутствует только адресант – Лихарев. Поскольку речевая функция адресанта обозначается Р. Якобсоном как эмотивная [Якобсон, 1975], адресат с той или иной до- лей эмпатии воспринимает направленное на него экспрессивное высказывание, в данном случае – исповедь.
Основное жизненное и интеллектуальное занятие Лихарева – поиски веры. Он признается, что у него «вера <…> была всегда деятельная, не мертвая» (т. 5, с. 469). Будучи еще гимназистом, Лихарев «ходил по дому, по конюшням, проповедовал свои истины» (т. 5, с. 469). В университете началось увлечение науками, поскольку всем им свойственно «стремление к истине. Каждая из них <…> имеет своею целью не пользу, не удобства жизни, а истину» (т. 5, с. 469). Вскоре герой осознал относительность научной истины, не приводящей к однозначным выводам: «Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца <…>» (т. 5, с. 470). Затем последовали нигилизм шестидесятых годов, вернее, вера в него; сопутствующее мировоззрению демократа-семидесятника хождение в народ; его сменило толстовство («Последней моей верой было непротивление злу» (т. 5, с. 470)).
Реципиент – в сюжетной ситуации рассказа Иловайская – получает возможность пройти «ускоренный курс» эволюции социально-политических и культурных течений в русской общественной жизни последнего двадцатилетия. Энтузиаст Лихарев самозабвенно предается той или иной «вере» (настолько пылко, что проматывает свое и женино состояние, а теперь вынужден ехать управляющим в степную шахту), однако быстро устает от очередного идеологического увлечения (или приключения?) и меняет свое идеологическое кредо: «И так далее, и так далее… В свое время я был и славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украйнофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества… увлекался я идеями, людьми, событиями, местами… увлекался без перерыва!» (т. 5, с. 470). Обратим внимание на самоиронию Лихарева, выраженную в повторении наречия «и так далее» (в речевом поведении это означает либо насмешку, либо досаду). «Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед», – признается Рудин восьмидесятых годов (т. 5, с. 471). Однако все идеологические испытания переживались героем совершенно искренне: «…каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело» (т. 5, с. 470–471).
Последним «идейным» пристрастием Лихарева стали женщины – преданные соратницы, способные к самопожертвованию. Иловайская, молча слушавшая своего собеседника, испытывает необыкновенное волнение: «Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впилась глазами в его лицо. <…> для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения, или, как он сам говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего» (т. 5, с. 472–473). Чудо рождественской ночи заключается в том, что Иловайская, вначале недовольная своей вынужденной задержкой в пути, теперь на мгновение ощущает себя готовой следовать за Лихаревым и соглашается с ним, что если кого-нибудь полюбит, то пойдет за ним на северный полюс. «Да, если… полюблю», – признается она с определенным усилием (графически переданным многоточием, которое обозначает недолгую паузу) (т. 5, с. 473).
Кульминацией рождественского сюжета в этом рассказе является изменившееся восприятие Иловайской, внезапно открывшейся миру: «Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – всё это мешалось, вырастало в одно громадное впечатление, и мир Божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. <…> жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца» (т. 5, с. 474). Наутро волшебный мир поблек, и перед героиней предстал немолодой измученный различными «верами» и обстоятельствами человек: «После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким <…>»; «Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, заброшенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, <…> глядел на нее и добродушно улыбался» (т. 5, с. 475, 476). «Барышня Иловайская» даже хотела протянуть ему «четвертную бумажку», но устыдилась этого. Невольные товарищи по ночлегу прощаются, и Иловайская отбывает в имение отца, а Лихарев вскоре последует в заброшенный степной угол, на шахту.
Лихарев обладает хаотической энергией, дезориентирован в жизненном целеполагании и не способен закрепиться где-либо (и физически – в пространстве, и ментально – в «вере») надолго. Эти качества сближают его с «отвлеченным» человеком. Автор позволил своему герою высказаться вполне, а сочувственная реакция героини закрепила это доверие. Тургеневский Рудин менял «поприща», но твердо придерживался гегельянства. Смена идей (и идеалов) не свойственна убежденному в своей правоте энтузиасту. Энтузиазм Лихарева распыляется, элиминируется в невоплощенных до конца «верах». Смешение характерологических признаков в структуре характера (Дон Кихот – Рудин – «заброшенный» и, по сути, «обыкновенный» человек) присуще чеховской концепции человека, согласно которой он заключает в себе множество «текучих» свойств, чему способствует «дискретное изображение психологии» (А. П. Чудаков) 3.
В рассказе «Соседи» у персонажа рудинского плана появляется оппонент. Теперь исповедь героя воспринимается не настроенным на сочувствие, а несогласным сознанием. Молодой помещик Ивашин направляется к своему соседу и некогда приятелю Власичу с целью выяснить, отчего его сестра ушла к нему. Попыткой вернуть свободолюбивую сестру домой объясняется мучительная для Петра Михайлыча поездка к бывшему товарищу. Он настроен решительно: и Власич, и сестра Зина совершили моральное преступление: «Один обольстил и украл сестру, <…> другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит… И все это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!» (т. 8, с. 57).
Характерологическая структура образа Власича, как и в предыдущем рассказе, представляет собой совмещение «слабости» обыкновенного человека и рудинского энтузиазма. Именование Дон Кихот эксплицировано во внутренней речи несогласного с Власичем соседа: «Он – Дон Кихот, упрямый фанатик, маньяк <…>» (т. 8, с. 65). Власич рассказывает историю своей нелепой женитьбы «под влиянием хорошей, светлой минуты» (т. 8, с. 61) на отвергнутой содержанке батальонного командира. Теперь она требует непомерной суммы за развод, и он не в состоянии что-либо предпринять. Ведущий персонаж артикулирует не смену идей, как герой рассказа «На пути», а эмоциональную составляющую своей идеологии. Ивашин размышляет о том, что Власич «либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется он как-то всё в одну ноту, не эффектно и вяло. <…> Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они у него кажутся банальными и отсталыми» (т. 8, с. 63–64).
Власич укоряет своего собеседника: «Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни» (т. 8, с. 64). Однако вместо прокламации идей он произносит действительно банальные фразы о своем отношении к Зине Ивашиной: «Я <…> благоговею перед твоей сестрой. <…> Теперь мое благоговенье растет с каждым днем. Она для меня выше, чем жена! Выше! <…> Она моя святыня. С тех пор как она живет у меня, я вхожу в свой дом как в храм. Это редкая, необыкновенная, благороднейшая женщина!» (т. 8, с. 61). Примечателен скептический отклик Ивашина: «Ну, завел свою шарманку!» (т. 8, с. 61).
Ивашин недоумевает: «…чем этот человек мог так понравиться Зине? <…> Ни здоровья, ни красивых мужественных манер, ни светскости, ни веселости, а так, с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одевается он безвкусно, поэзии и живописи он не признает, потому что они “не отвечают на запросы дня”, то есть он не понимает их; музыка его не трогает»; «В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его “простоватым”» (т. 8, с. 63). Неприспособленность Власича к действительной жизни и его неумение эту жизнь понять превращают его в жалкого и, в конце концов, никчемного человека.
Помимо удручающей посредственности, преобладающей в складе личности Власича, выделим характерную для «отвлеченного» человека черту неспособности к счастью и упомянутую нами эмоциональную «текучесть», в данном случае подчеркнутую речевой манерой – все преувеличивать и выражаться экзальтированно. Приведем пример: «А мы с Зиной сегодня после обеда провели несколько воистину светлых минут!» (отметим фиксацию на будничном занятии – обеде и следующий затем сразу высокопарный оборот) (т. 8, с. 70). Далее оказывается, что они читали статью о переселенческом движении (по выражению Власича, «по переселенческому вопросу»). «Статья замечательная по честности. Я не выдержал и написал в редакцию письмо для передачи автору. Написал только одну строчку: “Благодарю и крепко жму руку!”»; «Петр Михайлыч хотел сказать: “Не впутывайся не в свое дело!” – но промолчал» (т. 8, с. 70). Когда же чета соседей провожала Ивашина, «он был глубоко убежден, что они несчастны и не могут быть счастливы, и их любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой» (т. 8, с. 70). Ивашин переживает и свою неспособность к «живой жизни»: он «убеждался, что до сих пор говорил и делал не то, что думал, и люди платили ему тем же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода (в пруду. – Л. С .) <…>» (т. 8, с. 71).
В рассмотренном рассказе человек рудинского плана выглядит эмоционально разбросанным, а его приверженность идее (либерализму) – несколько принужденной; идея становится обязанностью – отсюда подчеркивание «светлых» и «честных» моментов в прошедшей и текущей жизни. Персонаж-оппонент частично дискредитирует высказывания героя рудинского типа. Появляется иная точка зрения. Рассказ приобретает диалогическую структуру, причем в итоге оказывается, что «спорят» не идеи, а экзистенциальные статусы персонажей.
В последнем анализируемом нами рассказе, «У знакомых», «отвлеченный» герой за-бытовляется. На самом деле, следует убрать рудинскую составляющую из того образа «идеалиста», который сочиняет себе персонаж. Это просто человек со слабой волей, эгоистичный и не порывистый и легко отдающийся новой «идее», а, скорее, скользкий. Оценка персонажа принадлежит его оппоненту, обладающему единственно правильной точкой зрения, – диалогическая структура повествования здесь отсутствует, поскольку персонаж условно рудинского плана не выдвигает никаких идей.
Подгорин, получивший нарочито бодрую записку от своих знакомых из имения Кузьминки, понимает, что его позвали туда в качестве опытного адвоката, который спасет имение от неминуемой продажи. Некогда, лет десять-двенадцать назад, бывший домашним человеком в Кузьминках, Подгорин тяготится ролью поверенного в семейных делах, которую ему незаметно, в течение этих десяти лет, навязали.
Уже в начальной ситуации рассказа появляется образ Сергея Сергеича Лосева, ассоциативно связанный в представлении героя с той досадой, которую он испытывает по получении приглашения: «Настоящее было ему (Подгорину. – Л. С .) мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением, и когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергеич… Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены этим самым Сергеем Сергеичем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Под-горину обращаются за советом, как к юристу, и мало того, уже два раза просили у него взаймы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег» (т. 10, с. 7–8).
Неискренность хозяев вызывает скрытое раздражение Подгорина. Так, в появлении рядом с ним молодой сестры хозяйки, Надежды, он чувствует желание женить его, и ему неприятны и голая шея, и белое платье, и чулки телесного цвета, которые составляют облик беззащитной и открытой будущему девушки. Веселость остальных членов семейства и примкнувшей к ним бывшей курсистки, а ныне уже поседевшей доктора Вари, вызывает у Подгорина отторжение: «Он знал, что, кроме ласковых попреков, шуток, смеха, <…> будет ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 2: Филология
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 2: Philology еще неприятный разговор о векселях и закладных <…>» (т. 10, с. 11). Проводником этой лжи Подгорин считает именно Лосева – виновника разорения семьи, избалованного вниманием женщин, включая жену Татьяну: «…Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство…» (т. 10, с. 9).
Именно женщины создали Лосеву репутацию героя рудинского плана: «Ему верили глубоко, обожали его и избаловали его своим поклонением, так что он сам стал верить, что он идеалист, непрактичен, честен, чист душой <…>» (т. 10, с. 14). Однако автор наделяет этого персонажа чертой, выявляющей его подлинную натуру: физической липкостью («…казалось, что он покрыт сладким клеем и сейчас прилипнет к вам» (т. 10, с. 12)), связанной со способностью «прильнуть» к кому-нибудь. Наличие этой черты свидетельствует о том, что Лосеву безразличен собеседник, а главное для него – воздействие на человека с целью что-нибудь получить (деньги, внимание и т. п.). Немалая навязчивость Лосева есть проявление душевной и физической «липкости»: «…идти рядом с ним было мучительно. Он то и дело целовался, <…> брал под руку, обнимал за талию», отчего у Подгорина возникало стойкое ощущение опасности – «это выражение в глазах, что ему нужно что-то от Подгорина, <…> производило тягостное впечатление, как будто он прицеливался из револьвера» (т. 10, с. 12). Манера дышать в лицо собеседнику также изобличает своего рода доминирование, желание подчинить себе.
Заметим, что в данном рассказе человек, утративший основные характеристики рудинско-го типа: глубину внутреннего мира, преданность идее, способность за собой увлечь, почти не высказывается о себе. Все его личностные качества оцениваются главным героем, а поведение Лосева подтверждает эти оценки. Он получает возможность выразить свое кредо лишь единожды: когда просит у Подгорина денег. «Нашему брату-чудаку конец пришел, крышка. Идеализм теперь не в моде. Теперь царит рубль, и если хочешь, чтобы не спихнули с дороги, то распластайся перед рублем и благоговей»; «Мое поле – большой, шумный город, моя стихия – борьба!» – вещает несостоявшийся Рудин (т. 10, с. 19). Эти фразы прикрывают настоящую цель Лосева – занять денег. Подгорин не без замешательства одалживает требуемую сумму, но, наконец, высказывается по поводу «идеализма» хозяина имения: «И ради Бога, перестаньте воображать, что вы идеалист. Вы такой же идеалист, как я индюк. Вы просто легкомысленный, праздный человек, и больше ничего» (т. 10, с. 19–20). «Посмотрите на себя в зеркало, <…> вы уже не молодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, отдать себе хоть какой-нибудь отчет, кто вы и что вы. Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, ломанье, кривлянье – неужели у вас у самого голова еще не закружилась и не надоело так жить? <…> Скучно с вами до одурения!» – продолжал Подгорин (т. 10, с. 20).
Вскоре герой сожалеет, что обошелся с Лосевым так сурово: «Какая польза говорить серьезно или спорить с человеком, который постоянно лжет, много ест, много пьет, тратит много чужих денег и в то же время убежден, что он идеалист и страдалец? Тут имеешь дело с глупостью или со старыми дурными привычками, которые въелись в организм, как болезнь, и уже неизлечимы» (т. 10, с. 21). «Идеалист» Лосев приспособился к жизни – а это означает исчерпанность рудинского типа в рамках той действительности, которую воссоздает автор.
Заключение
Таким образом, герои первый двух проанализированных нами рассказов сохраняют черты рудинского типа настолько, насколько человек эпохи восьмидесятых годов мог им соответствовать. Приверженность идее (идеям), энтузиазм, большая или меньшая степень самоотверженности присущи как Лихареву («На пути»), так и Власичу («Соседи»). В поэтике рассказов отметим монологическую структуру первого и диалогическую структуру второго – у героя-энтузиаста появляется оппонент; сам же Власич бездарен и далек от «живой жизни». Персонаж третьего рассказа отнесен нами к названному типу условно. Он утратил способ- ность жертвовать собой, сохранив лишь привычку называть свой эгоизм – идеализмом. Это может свидетельствовать о «вымывании» типа героя-идеолога и энтузиаста из культурного и жизненного пространства наступившей эпохи «конца века».
Список литературы Авторепрезентация героя рудинского типа в поэтике прозы А. П. Чехова середины 1880 - 1890-х годов ("На пути", "Соседи", "У знакомых")
- Капинос Е. В., Проскурина Е. Н., Ромодановская Е. К. Предисловие // Словарь-указатель сюжетови мотивов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. Вып. 2. С. 3-17
- Одесская М. М. Чехов и проблема идеала. М: РГГУ, 2011. 496 с
- Сендерович С. Я. Чехов - с глазу на глаз. История одной одержимости: опыт феноменологии творчества. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 287 с
- Собенников А. С. Судьба и случай в русской литературе: от «Метели» А. С. Пушкина к рассказу А. П. Чехова «На пути» // Чеховиана. Чехов и Пушкин. М.: Наука, 1998. С. 137-144
- Созина Е. К. О «сырости водосточных труб»: философско-антропологическое измерение творчества Чехова в контексте поколения восьмидесятников // Критика и семиотика. 2006. № 10. С. 82-97
- Сотникова Ю. А. А. В. Амфитеатров и его роман «Восьмидесятники» в социокультурном контексте 1880 - начала 1900-х годов: Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Тамбов: Тамбов. гос. ун-т, 2006. 200 с
- Тимофеев Н. А. Эволюция героя в прозе А. П. Чехова 1890 - 1900-х годов: Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М.: Моск. гос. пед. ун-т, 2014. 217 с
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 8. 623 с
- Фаустов А. А., Савинков С. В. Очерки по характерологии русской литературы: середина XIX века. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1998. 156 с
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1984. Т. 5. 703 с.; Т. 8. 527 с.; 1986. Т. 10. 495 с
- Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М.: Прогресс, 1975. С. 193-230