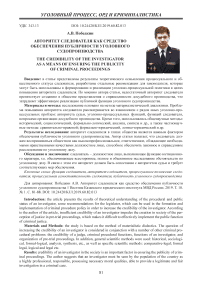Авторитет следователя как средство обеспечения публичности уголовного судопроизводства
Автор: Победкин Александр Викторович
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовный процесс, ОРД и криминалистика
Статья в выпуске: 1 (35), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье представлены результаты теоретического осмысления процессуального и общественного статуса следователя, разработаны отдельные рекомендации для законодателя, которые могут быть использованы в формировании и реализации уголовно-процессуальной политики в целях повышения авторитета следователя. По мнению автора статьи, недостаточный авторитет следователя препятствует созданию в обществе представления о справедливости досудебного производства, что затрудняет эффективную реализацию публичной функции уголовного судопроизводства. Материалы и методы: исследование основано на методе материалистической диалектики. Проблема повышения авторитета следователя рассматривается во взаимосвязи с рядом иных уголовно-процессуальных проблем: авторитета судьи, уголовно-процессуальных функций, функций следователя, вопросами организации досудебного производства. Кроме того, использовались общенаучные методы: исторический, социологический, формально-логический, анализа, синтеза и др., а также частнонаучные методы: сравнительно-правовой; формально-юридический, логико-юридический и др...
Функции следователя, авторитет следователя, процессуальное положение следователя, процессуальная самостоятельность следователя, публичность уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/142222998
IDR: 142222998 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24420/KUI.2019.60.82.013
Текст научной статьи Авторитет следователя как средство обеспечения публичности уголовного судопроизводства
Многочисленные, в том числе и кардинальные, изменения уголовно-процессуального законодательства не способны существенно повлиять на качество уголовного судопроизводства. Этот вывод не вызывает сомнений даже на фоне ежегодного снижения количества зарегистрированных преступлений. Он основан не только на информации о многочисленных жалобах на прямые, нередко попросту циничные нарушения законодательства в ходе досудебного производства1, но, прежде всего, на отношении населения страны к должностным лицам правоохранительных структур, которое не может не распространяться на участников уголовного судопроизводства, осуществляющих предварительное расследование. По результатам исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 40% населения полагают, что правоохранительные структуры коррумпированы. Около половины населения считают, что их потребность в справедливости не удовлетворяется [1]. Где же еще так ярко выражается справедливость, как не в уголовном судопроизводстве, которое и существует для того, чтобы ее, попранную, восстанавливать [2].
Однако важно не только обеспечить справедливость уголовно-процессуальных решений, важно, чтобы в это поверили люди, в противном случае чувство тревоги за свою безопасность, безопасность своих детей останется неизжитым, а значит, и публичность уголовного судопроизводства, которая, по мнению автора настоящей статьи, является основной его функцией, по сути, останется нереализованной.
Публичность имеет две стороны – объективную и субъективную. Объективная – реальная безопасность общества от преступных проявлений, обеспечиваемая выявлением и привлечением к уголовной ответственности действительно виновных, субъективная – осознание этой безопасности каждым жителем страны. Отсутствие как той, так и другой составляющей свидетельствует, что свое публичное предназначение уголовный процесс не выполняет.
В части досудебного производства обе стороны публичности сегодня в России упречны. Недаром идеи реформирования досудебного производства вновь на пике обсуждений – и на серьезном общественном уровне2, и в науке [3, с. 9-21; 4, с. 9-18]. Объективная сторона страдает ввиду последовательного скатывания уголовно-процессуального законодательства к ценностям, несвойственным россиянам: голому прагматизму, дешевизне, договорным технологиям, которые отнюдь не стимулируют должностных лиц, осуществляющих досудебное производство, к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств по уголовному делу. Субъективная сторона публичности определяется связью народа с уголовным судопроизводством, которую можно обеспечить лишь комплексными системными решениями. Одно из них – обеспечение авторитета следователя в глазах населения страны.
Методология и материалы
Исследование основано на методе материалистической диалектики: проблема повышения авторитета следователя рассматривается во взаимосвязи с рядом иных уголовно-процессуальных проблем: авторитета судьи, уголовно-процессуальных функций, функций следователя, организации досудебного производства. Кроме того, использовались общенаучные методы: исторический (в части истории процессуального положения следователя и соотношения его с судейским положе- нием), социологический (использовались статистические показатели, характеризующие качество досудебного производства, отношения населения к правоохранительным органам), формально-логический (функции следователя логично выводились из его полномочий), анализа, синтеза и др., а также частнонаучные методы: историко-правовой (сравнивалось современное и ранее действовавшее законодательство, регламентирующее положение следователя), формально-юридический, логико-юридический (исследовалось содержание конкретных норм уголовно-процессуального права и их логическая связь) и др. Изучались доклады и выступления должностных лиц, возглавляющих правоохранительные органы, общественные и законотворческие структуры, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд).
Обзор литературы
В основе уровня авторитета, которым должен обладать следователь, – решение вопроса о его функциях. Многочисленные точки зрения на выполняемую следователем функцию в основном сводятся к сущностной характеристике его положения в процессе: является ли он обвинителем (участником, осуществляющим уголовное преследование) или лицом, производящим предварительное расследование всесторонне, полно и объективно, что ближе к судейскому предназначению. О.Я. Баев, настаивавший, что следователь выполняет функцию уголовного преследования вне зависимости от наличия в уголовном судопроизводстве подозреваемого (обвиняемого), писал: «Говорить об уголовном преследовании, имея в виду его осуществление только в отношении конкретного лица, не включая в него деятельность, приводящую к его, конкретного лица, выявлению и изобличению, – все равно что попытаться одной линией начертить прямоугольник либо без длины, либо без высоты» [5, с. 23]. Иначе говоря, с точки зрения О.Я. Баева, следователь выполняет функцию уголовного преследования вне зависимости от того, выявлен ли по уголовному делу подозреваемый или обвиняемый. Другими видными специалистами отстаивается и иной подход: следователь осуществляет функцию предварительного расследования [6, с. 122-127; 7, с. 38]. Существует авторитетное мнение, что в деятельности следователя можно усмотреть и функцию обвинения, и функцию защиты, и функцию разрешения уголовного дела [8, 13-14; 9, с. 18-19]. Обозначена позиция, согласно которой следова- тель, выполняя функцию предварительного расследования, после наделения лица процессуальным статусом обвиняемого, подозреваемого одновременно реализует подфункцию обвинения [10, с. 50].
Понимание сущности положения следователя в уголовном судопроизводстве, несомненно, важно. Однако она в любом случае определяется не собственно наименованием функции, а обязанностями, которые следователь обязан выполнить в ее рамках. Не вызывает никаких сомнений, что все авторы, отстаивающие разные позиции относительно выполняемых следователем функций, не отказывают следователю в обязанности исследовать обстоятельства по уголовному делу всесторонне, полно и объективно, что в полной мере соответствует правовым позициям Конституционного Суда1.
Результаты исследования
Следователь, конечно, при наличии к тому оснований не может не осуществлять действия, ставящие человека в положение лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Однако эти его действия являются лишь результатом реализации им своего основного предназначения, которым является всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств по уголовному делу в целях правильного установления значимых обстоятельств (по сути, это и есть установление истины). Точно так же и суд постановляет обвинительный или оправдательный приговор (либо постановление о прекращении уголовного дела) по результатам исследования обстоятельств по уголовному делу, и эти судебные решения никем не воспринимаются как выполнение судом функции обвинения или защиты.
Следователь, равно как и судья, принимает решения по результатам объективного исследования обстоятельств по уголовному делу. Объективность следователя и судьи вполне сопоставимы. В связи с этим длительный исторический перекос в законодательстве, позициях Конституционного Суда РФ, ряде научных работ, в направлении некоего особого, по сравнению со следователем, авторитета судьи, имеющего конституционно-правовую природу, вызывает серьезные сомнения.
Конституционно-правовой статус судьи, особый характер его деятельности, на которые опирается Конституционный Суд, обосновывая даже исключение из принципа равенства всех перед законом и судом, в полной мере относится и к следователю, от деятельности которого во многом зависят, во-первых, исход судебного разбирательства, во-вторых, судьбы участников уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. Потому имеются все основания поспорить с тем, что судебная власть – «самая спокойная, выдержанная, рассудительная власть…» – самодостаточна [11, с. 53].
Конституционный Суд обосновывает особый статус судьи следующим образом: «…общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия. Конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его профессиональной деятельности, направлено на обеспечение основ конституционного строя, связанных с разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти … является не личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а средством защиты публичных интересов, и прежде всего, интересов правосудия. Следует также учитывать особый режим судейской работы, повышенный профессиональный риск, наличие различных процессуальных и организационных средств контроля за законностью действий и решений судьи»1. С некоторыми незначительными допущениями правовая позиция Конституционного Суда РФ полностью относится и к следователю как должностному лицу, осуществляющему досудебное производство.
Труд следователя отнюдь не менее тяжел и ответственен, чем работа судьи, учитывая, что для следователя решение не только процессуальных, но и лежащих на его плечах организационных проблем расследования – обычная практика. «Особый режим судейской работы, повышенный профессиональный риск, наличие различных процессуальных и организационных средств контроля за законностью действий и решений»2 – это ли не о следователе?
Исторически не все претенденты на судейскую работу готовы были выполнять работу следственную именно в связи с ее сложностью и напряженностью. Так, при подготовке Судебной реформы 1864 г. предлагалось возложить обязанность проведения предварительного следствия на мировых судей. Однако от этого предложения пришлось отказаться. Велико было опасение, что неблагодарность следственных обязанностей отпугнет «уважаемых людей» от судейских должностей. «Должность мирового судьи делается столь зависимою и беспокойною, что никто из людей самостоятельных и достойных не пожелает быть мировым судьей» [12, с. 86].
Вот где заложен корень проблемы! Он – в ошибочном представлении, что следственная должность не для людей самостоятельных и достойных. К сожалению, избавиться от этого явно дискредитирующего профессию следователя представления не удалось и до настоящего времени.
Конституционно-правовой статус, который неизменно подчеркивается Конституционным Судом Российской Федерации как неотъемлемая характеристика судьи, не может не распространяться и на следователя, хотя о нем в Конституции Российской Федерации прямо и не сказано. Однако же реализация конституционного принципа презумпции невиновности (ст. 49 Конституции) предполагает доказывание виновности не только на судебных, но и на досудебных стадиях, а значит, «независимой и беспристрастной по своей природе»3 должна быть не только судебная власть, но и следственная деятельность, ибо судьба уголовного дела нередко разрешается и на досудебном производстве.
Не будем отрицать, что в дореволюционной России все же предпринимались попытки обеспечить авторитет следователя на уровне, приближенном к судейскому, хотя они и не в полной мере удались. Судебные следователи и в царской России не снискали авторитета, равного судейскому, хотя и назначались Императором, и числились по судебному ведомству. Начиная с 1860-х годов, кандидат в судебные следователи обязан был иметь, как и судья, высшее юридическое образование и прослужить по судебной части не менее трех лет [13, с. 362]. Именно за это судебного следователя невзлюбили полицейские и жандармские чины, а старые косные суды с дореформенными корнями еще продолжали ненавидеть [14].
Справедливости ради заметим, что авторитетный судебный следователь был неудобен и власти. Последовательно судебные следователи (а также следователи по особо важным и важнейшим делам при окружных судах, которые начали вводиться с 1867 г.) вытеснялись «чиновниками, причисленны- ми к министерству юстиции и командированными министром к исправлению должности судебного следователя». «В 1898 году из 1487 судебных следователей, состоящих по империи, только 154, т.е. около 10%, пользовались судейской несменяемостью» [15, с. 59, цит. по: 16, с. 285].
После революционных событий 1917 г. авторитет следователя во многом пострадал и в связи со все-таки состоявшейся передачей следователей в государственные органы исполнительной власти, да еще и под административное руководство начальников, возглавляющих оперативную работу. Если начало Советской власти ознаменовано хотя бы формальной принадлежностью части следователей к судебным органам, а последующие ее шаги – концентрацией их в органах прокуратуры, то дальнейшее развитие следственного аппарата окончательно означало де-факто «слияние» следователя с органами исполнительной власти и оперативными аппаратами под одним руководством. Стало шириться и дознание, хотя идея передачи «менее важных дел» от судебных следователей полиции была отвергнута еще авторами реформы 1864 г. по причинам того, что «неминуемо обнаружились бы все капитальные недостатки следствия, которые побудили законодательную власть к безотлагательному учреждению судебных следователей, не выжидая преобразования других частей судоустройства и судопроизводства». В числе таких недостатков «отцы» реформ видели соединение сыска и следствия, а последнее считалось функцией ближе к судебной, чем к полицейской [12, с. 86].
Разграничения полицейской и юстиционной деятельности – наиболее перспективный путь, следуя которым можно и нужно разрушать ассоциирование следователя с простым чиновником, который ходит на серую повседневную работу, а не выполняет высокую миссию1.
Действительно, как обосновывалось выше, следователь и судья выполняют функцию одной природы – юстиционной. К сожалению, по объективным и субъективным причинам, в том числе и узковедомственного характера, с 60-х годов прошлого века авторитет следователя стараниями законодателя неизменно снижался. Сегодня оценка деятельности следователей в ряде случаев уже на грани такта: «следственная власть» объявляется атрибутом автократии, бюрократической структурой, подрывающей доступ человека к правосудию, как «паразитарная инстанция в плане полезного вклада в информационный продукт», от которой в цифровую эпоху вообще стоит отказаться [4, с.14].
Конечно, соединение следственных аппаратов в органах исполнительной власти, да еще в одной организационной структуре с оперативными службами, повлияло на авторитет следователя. Следователь стал отождествляться с должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и по характеру деятельности, и по методам, и по требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Недаром в отечественном кинематографе фигуры следователя и оперативного работника нередко сливались в одно лицо. Именно таким следователь и воспринимается населением страны: как оперативный работник, а не как должностное лицо, выполняющее функцию, близкую к судебной.
В связи с этим создание Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет)2 – перспективный шаг к возвращению следователю юстиционной функции. Тем более что принципом деятельности этого федерального государственного органа (без указания конкретной ветви власти, а значит, находящегося в системе «сдержек и противовесов») выступает независимость от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, иных органов [13, с. 364]. А.А. Шишков верно замечает, что предназначение следователя – предварительное исследование обстоятельств уголовного дела, в то время как функция обвинения традиционно присуща исполнительной власти, а значит, следователю нужно искать место вне исполнительной власти [13, с. 366].
Заметим, что в структуре Следственного комитета предпринимаются заслуживающие внимания меры по поддержанию авторитета следователя, непосредственно расследующего преступления. В частности, производятся реорганизации, направленные на увеличение количества реальных следователей за счет управленческих и штабных структур [19]. В региональных следственных подразделениях число следователей предполагается довести до максимума – 70 % штатной численности. Старшие следователи по особо важным делам Следственного комитета получили статус состоящих «при Председателе Следственного комитета Российской Федерации», что направлено на повы- шение их авторитета и формирование положительного имиджа в глазах общества.
Однако все же вряд ли именно факт слияния следствия с органами исполнительной власти стал решающим в вопросе снижения авторитета следователя. Он мог бы быть обеспечен и в этих условиях.
Утрата авторитета следователем, ставшая неизбежным следствием снижения образовательного ценза, материального обеспечения, социального статуса, сама по себе выступила катализатором дальнейших мер по снижению его процессуальной самостоятельности. Несмотря на то, что в Концепции судебной реформы в РСФСР1 был поставлен вопрос о восстановлении процессуальной самостоятельности следователя, именно слабость следственного аппарата стала основной причиной сохранения в уголовно-процессуальном законодательстве начальника следственного отдела (руководителя следственного органа) как участника уголовного судопроизводства. Б.Я. Гаврилов прямо объяснял его необходимость не в полной мере дееспособным следственным аппаратом и признавал возможность отпадения в будущем условий, влекущих необходимость данной процессуальной фигуры [20, с. 11].
Следователь, не имеющий жизненного опыта, с нравственностью и правосознанием, поврежденными периодом вседозволенности конца прошлого века, постоянно присматривающийся к работе более высоко оплачиваемой, предсказуемой и спокойной, уважаемой в обществе, уже с большим трудом может ощущать причастность к великому делу, чувствовать ответственность за него, которая совершенно не сравнима с чиновничьей, а равна ответственности за судьбы справедливости в мире.
К сожалению, к положению следователя как чиновника «средней руки» прежде всего стали привыкать и сам следователь, и его руководители, а затем и общество.
Обсуждение и заключения
Возрождение авторитета следователя – сложный, но необходимый путь, без которого публичное назначение уголовного судопроизводства не будет реализовано в полной мере ввиду отсутствия его субъективной составляющей.
В глазах населения следователь должен выступать как высокопрофессиональное, ответствен- ное, обладающее необходимыми нравственными качествами должностное лицо, способное обеспечить законное и справедливое расследование по уголовному делу.
Одним повышением статуса, материального и социального обеспечения вопрос, конечно, не решить, как не удалось решить его только этими мерами в отношении судей (хотя, несомненно, делать это нужно). Следователь – представитель общества, в котором живет. В связи с этим нравственные качества следователя, необходимые для осуществления следственной миссии, должны воспитываться вместе с нравственными качества общества. В семье, школе, на этапе подготовки в вузе (прежде всего примером профессионализма, совестливости и честности педагогов, а затем уже изучением юридических и философских дисциплин), развиваться в дальнейшем в ходе профессиональной деятельности уважительным отношением к процессуальной позиции следователя со стороны его руководителей (а не подавляться грубым администрированием). В перспективе законодателю следует подумать об исключении руководителя следственного органа из числа участников уголовного судопроизводства. С точки зрения законодательной перспективы интересны предложения по установлению возрастного ценза для кандидатов на должность следователя, а также по усилению связи следователя и народа посредством введения хотя бы элементов выборных начал (если не избрание или одобрение кандидатуры следователя голосованием избирателей, то хотя бы учет мнения представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллектива органа предварительного следствия) [21, с. 118-121] и др. Организационные аспекты единого статуса следователя целесообразно предусмотреть в самостоятельном нормативном акте: это мог бы быть закон о следственных органах или о статусе следователя.
Следователь имеет конституционно-правовой статус, выполняет публичную функцию, от его работы судьбы людей зависят не меньше, чем от выполнения своей функции судьей, поэтому восстановление авторитета следователя – одна из первоочередных задач, от решения которой зависит эффективная реализация назначения уголовного судопроизводства.
Список литературы Авторитет следователя как средство обеспечения публичности уголовного судопроизводства
- Четверикова А. Макарошки по-русски // Российская газета. 2018. 21 декабря.
- Васильев О.Л. Теоретические аспекты действия принципа справедливости на досудебных стадиях российского уголовного процесса: дис. … д-ра юрид. наук. М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2018.
- Боруленков Ю.П. Следственный судья как «слабое звено» уголовно-процессуального доказывания // Библиотека криминалиста. 2015. № 3 (20).
- Власова С.В. К вопросу о приспосабливаемости уголовно-процессуального механизма к цифровой реальности // Библиотека криминалиста. 2018. № 1 (36).
- Баев О.Я. Следователь (основы теории и практики деятельности). М.: Прометей, 2017.
- Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М: Госюриздат, 1961.
- Соловьев А.Б. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России: монография / А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, А.Г. Халиулин, Н.А. Якубович. М.-Кемерово, 1997.
- Гуляев А.П. Процессуальные функции следователя: учебное пособие. М.: Академия МВД России, 1981.
- Уланов В.В. Содержание процессуальных функций следователя // Российский следователь. 2008. № 17.
- Победкин А.В., Ерохина О.С. Следователь в судебном заседании в ходе досудебного производства по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2017.
- Аверин А.В. Истина и судебная достоверность (Постановка проблемы). 2-е изд., доп. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.
- Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России (сущность и социально-правовой механизм формирования) // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3.
- Шишков А.А. Органы предварительного следствия в системе государственной власти // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства // Моя профессия - следователь: сб. статей по итогам межведомственной научно-практической конференции, 19 апреля 2018 г. М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. 2018.
- Куликов В. Яшманов Б. Главный по арестам. Следственные судьи защитят от незаконных дел // Российская газета. 2015. 12 марта.
- Бразоль Б.Л. Очерки по следственной части. Пг., 1916.
- Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 8. Судебная реформа / О.И. Чистяков и др.; отв. ред. Б.В. Виленский. М.: Юридическая литература, 1991.
- Головко Л.В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в российском уголовном процессе // Уголовная юстиция: связь времен: избранные материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 г.) / сост. А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. М., 2012.
- Буцковский Н. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвинительной власти от судебной. СПб, 1867.
- Козлова Н. В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей // Российская газета. 2019. 2 февраля.
- Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации // Юридический консультант. 2002. № 1 (97).
- Огородов А.Н. Реализация следователем процессуальной самостоятельности // Юридическая наука и правоприменительная практика. 2016. № 3 (37).