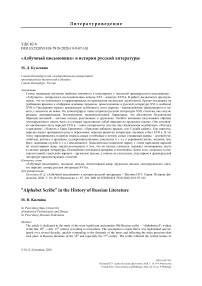"Азбучный письмовник" в истории русской литературы
Автор: Кузьмина Марина Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению наиболее значимого и популярного у читателей древнерусского письмовника - «Азбучного», датируемого исследователями концом XVI - началом XVII в. В работе выдвигается предположение, что он пополнялся и корректировался на протяжении нескольких десятилетий, быстро откликаясь на требования времени и отображая основные процессы, происходившие в русской литературе XVI и особенно XVII в. Письмовник отразил центральную особенность этого периода - взаимодействие традиционного и нового, с акцентом на новое. Он демонстрирует такие открытия русской литературы XVII столетия, как секуляризация, демократизация, беллетризация, индивидуализация. Характерно, что абсолютное большинство образцов посланий - частные письма, родственные и дружеские. Особого внимания заслуживают образцы «антидружеских» писем, часть из которых представляет собой пародию на дружеское письмо. Они составляют органичную часть пародий XVII в. - таких сатирических текстов, как «Калязинская челобитная», «Роспись о приданом», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Праздник кабацких ярыжек, или Служба кабаку». Как известно, пародия играет архиважную роль в переломные периоды развития литературы, каковым и был XVII в. В эту эпоху пародировались в первую очередь самые устойчивые и потому самые узнаваемые жанры - деловой (челобитная, роспись о приданом, судопроизводственные документы и т. п.) и церковной (житие, молитва, акафист, церковная служба и т. п.) письменности. Знаменательно появление наряду с этими пародиями пародий на эпистолярный жанр, свидетельствующих о том, что он вполне сложился, занимает полноправное место в системе жанров литературы, безошибочно опознается авторами и читателями. Более того, сложился и опознается новый, «светский» вариант - дружеское письмо, а отнюдь не учительное, популярное в древнерусской литературе предшествующих столетий.
Короткий адрес: https://sciup.org/147220486
IDR: 147220486 | УДК: 82-6 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-87-101
Текст научной статьи "Азбучный письмовник" в истории русской литературы
Kuzmina M. D. “Alphabet Scribe” in the History of Russian Literature. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 9: Philology, p. 87–101. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-9-87-101
Появление сборников образцов писем, письмовников, – важная веха в развитии эпистолярного жанра в русской литературе. Первые письмовники датируются XV–XVII вв. По подсчетам А. С. Демина, единственного исследователя, уделившего им специальное внимание 1, их около 170. Это очень много. Они свидетельствуют, во-первых, о популярности эпистолярного жанра, во-вторых, о стремлении описать его конститутивные признаки, утвердить их за ним, равно как и утвердить за ним свое определенное место в системе жанров древнерусской литературы. Если прежде, в XI–XIV вв., создавались преимущественно учительные послания, или послания-поучения, отличавшиеся жанровой поливалентностью (неразрывной связью прежде всего с жанрами поучения, слова, проповеди), то в XV–XVII столетиях – на фоне процессов секуляризации, формирования черт Предвозрождения и Возрождения (см., например: [Лихачев, 1967; 1972; 1998. С. 10–14, 71–117]) – эпистолярный жанр претерпевает изменения. Его эволюцию от XV к XVII в. можно проследить по трем наиболее значимым письмовникам: «Неозаглавленному» (XV в.), «Посланием начало…» (XVI в.) и «Азбучному» (XVI или XVII в. 2), – каждый из которых очень тесно связан с литературным процессом эпохи, в которую создавался. Наиболее интересен последний. «Азбучный письмовник», или «Сказание начертанья епистолия, предисловия и посланья ко всякому человеку», отличается наиболее демократическим характером. На это в свое время справедливо указал А. С. Демин [1963. С. 203–205]. «Азбучный письмовник» органично связан с русской литературой XVII в., отображая так отличающие ее процессы постепенной секуляризации, демократизации, беллетризации, индивидуализации литературного творчества.
Д. М. Буланин, изучая преломление античных традиций в древнерусской литературе, в частности традиций дружеского письма, остановился именно на этом письмовнике, выделив его как этапный на пути «литературной эмансипации древнерусского письма», «разрыва литературного письма с традициями учительного послания и деловых грамот» [Буланин, 1991. С. 209]. Ученый справедливо обратил внимание на лейтмотивную для данного письмовника тему дружбы («…о дружбе он напоминает на каждом шагу» [Там же. С. 210]), на наличие наряду с дружескими – «антидружеских» писем [Там же], характерных для античного эпистолярия, но не для древнерусской традиции; на расширение круга адресатов («…в их число попадают частные лица, связанные с отправителем родственными узами…» [Буланин, 1991. С. 209], «друзья и знакомые» [Там же. С. 210]). А. С. Демин небезосновательно вел речь о том, что в «Азбучном письмовнике» представлены также и любовные послания (мужа – к жене, жены – к мужу, также послание к отроковице) – послания, в которых «говорится о любви» [Демин, 1963. С. 272]. Это одни из ранних образцов любовных посланий в русской литературе; подобные им тексты постепенно появляются на протяжении XVII в. (см.: [Майков, 1889; Лихачев, 1986]). Но все эти новые черты в «Азбучном письмовнике» соседствуют со старыми, по-своему отображая характерный для русской литературы XVII в. процесс взаимодействия старого и нового.
Из двух традиционных для древнерусского эпистолярия групп адресатов – официальных лиц Церкви и государства, – к удивлению читателя, осознающего только что обрисованное нами новаторское содержание письмовника, широко представлена первая. В нее входит духовенство и монашество едва ли не всех уровней иерархии: святитель (т. е. архиерей), митрополит, священноинок, священник, старец-«авва» [Азбучный письмовник, 2003. С. 591] 3, инок, «великая старица» (с. 589) – монахиня, инокиня-«крылошанка» (с. 600) (т. е. клирошанка) и др. Некоторым из них (святителю, священнику, старцу) адресовано не по одному письму. При этом писем, предназначенных для официальных лиц государства, в особенности властителей (скажем, для царя, князя, вельможи), практически нет. Если и уделяется внимание, то служащим нарочито невысокого уровня. В числе адресатов можно увидеть разве что «царского казначея» (с. 596), «царского палатника» (с. 596), «царского постельника» (с. 596), воеводу, воина. Но весьма немногочисленные письма к ним теряются на фоне преобладающих писем к представителям духовенства и монашества, с одной стороны, и к нечиновным лицам, с другой. Это, во-первых, родственники, во-вторых, друзья (письма к ним особенно широко представлены), нынешние и бывшие, в-третьих, такие «разноплановые» адресаты-знакомые, как «мещанин» (с. 591), «мастер» (с. 592), «учитель» (с. 595), «иконописец» (с. 600), наконец, просто «мудрый человек» (с. 598) и даже «отрок» (с. 598) и «отроковица» (с. 598). Очевидно, для составителя письмовника, вопреки древнерусской традиции, официальные отношения гораздо менее важны, чем личные. Это открытие литературы XVII в., и рассматриваемый письмовник одним из первых демонстрирует новые приоритеты. Примечательно, что образцы посланий в «Азбучном письмовнике» располагаются не по иерархии адресатов, как следовало бы сделать согласно средневековому этикету, а по алфавитному принципу (первая буква первого слова), тем самым как бы утверждается «равноправие» адресатов, а вместе с ним и новые, демократические принципы.
Возможно, среди адресатов так много представителей духовенства и монашества, потому что для составителя письмовника и предполагаемого адресанта, человека рубежа XVI– XVII вв., несмотря на совершающуюся секуляризацию, духовная составляющая жизни остается архиважной. Можно предположить, что автор обращается к святителю и священнику, старцу и старице, иноку и монахине, людям, по большей части духовно опытным, для решения актуальных для него духовных вопросов. Но в эпоху секуляризации важны уже также и сугубо земные вопросы, межличностные связи, повседневно-бытовая составляющая жизни, от которой представительствуют адресаты-родственники, друзья и знакомые.
Очень вероятно, что служащие невысокого ранга – такие, как воевода, воин, «царский постельник», попали в число адресатов, потому что входят в круг общения автора. В письмовнике достаточно часто встречаются послания «К воеводе в полк» и «К другу в полк», окруженные соотносимыми с ними посланиями «К другу», «К воину», «Воеводе». Вполне возможно, что их адресат – одно и то же лицо: воин (воевода) друг. В целом ряде писем его характеристика идентична. Во-первых, это христианин – воин Христов (ср.: «в различных битвах помощию Ангела Господня прославльшему, великому и начальнейшему Архистратигу» (с. 591) – «К воеводе в полк»; «за православную истинную христианскую веру в различ- ных битвах различными язвами учащенному» (с. 591) - «К другу в полк»), во-вторых, храбрый, несокрушимый воин (ср.: «непреклонному на враги крепкому стоятелю» (с. 591) -«К воеводе в полк»; «всех храбростию удивльшему» (с. 591) - «К другу же просто»). В-третьих, он изображается во всех отношениях идеализированно - через изобилие словесных украшений. Его характеристика составлена из эпитетов - прилагательных в превосходной степени 4, сравнений и метафор, часто ассоциирующих его со сферой верха (неба) и света (ср.: «начальнейший Стратиг и воевода превознесенный» (с. 591) - «К воеводе в полк»; «зело пребыстрого орла высокопаривого летания храбростию своею и оружием достигае-ши...» (с. 591) - «К другу в полк»; «Златые отрасли ветви позлащенные...»- (с. 591) - «К другу просто»). В-четвертых, он именуется одинаково - «государем» (с. 591, 599) - «К воеводе в полк», «К другу в полк», «К воеводе», или «государем» и «другом сердечным» (с. 589, 591, 596) - «В полк другу», «К другу же просто», «К воину»). Первая характеристика, очевидно, связана с его официальным статусом и выражает уважительное отношение к нему, которое, как видно из текста письма, им заслужено. Вторая вербализует личное теплое чувство к нему, чувство, которое, как тоже видно из текста письма, и не может быть иным. Первая - вкупе с идеализацией адресата, взглядом автора на него снизу вверх - выполнена в традициях древнерусского учительного и делового послания. Вторая, напротив, находится в поле влияния дружеского письма, все более прочно утверждавшегося в отечественной эпистологра-фии. Диалектика традиционного и нового, отличающая русскую литературу XVII в., - проявляется в текстах «Азбучного письмовника» на всех уровнях.
Так, здесь налицо неведомое прежним письмовникам и чуждое природе письмовника как таковой стремление максимально точно и полно дифференцировать адресатов. Оно реализуется через привнесение в тексты важных для русской литературы XVII в. индивидуальных черт и обстоятельств частной, повседневной жизни. Адресаты - как представители духовенства и монашества, так и миряне, - характеризуются не только по своему официальному положению (священник, воевода и т. д.), но и по, казалось бы, избыточным для письмовника нюансам этого положения (например, различаются «старец», старец-«авва», «подначальный старец» (с. 590), «старец млад» (с. 591), священник и священноинок и т. п.). Но если официальный статус адресатов - все же достаточно традиционное основание для их дифференциации, то другие применяемые в «Азбучном письмовнике» критерии совершенно новы. Во-первых, это пол (в данном письмовнике впервые появились образцы писем к женщинам, в том числе к мирянкам, и, по всей видимости, не обязательно знатным; как известно, образы незнатных и несвятых женщин - открытие русской литературы XVII в.), во-вторых, возраст (ср.: «К старцу младу», «Ко отроку», «К невесте ко отроковице»), в-третьих, личные отличительные качества (ср.: «К другу книжному», «Ко учителю гордому», «К мудрому человеку»), в-четвертых, сама коммуникативная ситуация и специфика взаимоотношений корреспондентов (ср.: «К другу», «Непостоянну другу с посмехом», «Другу с лаею», т. е. с бранью). В ряде случаев описывается не только адресат, но и адресант (ср.: «От матери к сыну», «От вдовы сыну», «Мужу от жены», «От мужа к жене») и, что, казалось бы, совсем излишне, ука-зывается адрес (ср.: «К воеводе в полк», «К старцу в монастырь», «В монастырь девич», «В лавру»).
Не менее примечательно и ценно, что, стремясь максимально полно дифференцировать адресатов и ситуации эпистолярного общения, составитель письмовника пытается дифференцировать и содержание писем, характер обращения к адресатам. Самый свободный и эмоциональный стиль отличает особенно многочисленную группу посланий - к друзьям. Хотя выше и отмечалось, что в целом ряде текстов характеристика адресата-друга и адреса-
4 Справедливо наблюдение А. С. Демина: «Эпитеты он (автор письмовника. - М. К .) почти всегда усиливает приставкой “пре-” (“преизящный”, “превысочайший” <...>) или приставными “велико-”, “много-”, “добро-” (“великоименитый”, “многоплодовитый”, “добролиственный”, “остроумный” и т. д.). В составе сложных эпитетов постоянны усилительные дополнения: “ многим (здесь и далее курсив Демина. - М. К .) плод подаваеши и всех... насыщаеши”...» [1963. С. 198-199].
та-воина идентична, можно найти немало примеров, где она различна. В подобных случаях второй описывается торжественно-почтительно – как «государь великий» (с. 589), «в победе преславный» (с. 591) и т. п. Восторженное отношение к нему обусловлено его заслугами. Первый же, «друг», просто любим. Это ничем не мотивированное чувство буквально переполняет автора послания (и, как он уверен, разделяется адресатом) и изливается в нагромождении тропов, преимущественно эпитетов, которые семантически дублируют друг друга. Например, в послании под названием «Другу же»: «Драгого камыка измарагда, дражайшая драгия, истинныя и нелицемерныя любви рачителю, тиху и благоуветливу слову ласкосердому, образу прекрасному и возлюбленному привету, сердечному другу государю моему имярек» (с. 590). Эти строки говорят о любви, и ни о чем больше.
Но, пользуясь свободой дружеского общения, автор именно этой и только этой группе корреспондентов может выговорить свое недовольство. В подобных случаях он создает «ан-тидружеские», или «ругательные» [Буланин, 1989. С. 191] 5, как их квалифицирует Д. М. Буланин, письма, которые, как мы уже указывали, наследуют античной эпистолярной традиции. Их примеры в письмовнике малочисленны, но показательны. Это письма к «преждебывшему» другу (c. 593), к «недругу» (с. 594), к «другу с лаею» (с. 594) и «непостоянну другу с посме-хом» (с. 595). В каждом из них обличается вероломство адресата, изменившего дружбе.
Первые два – «Другу» и «Недругу» – очень соотносимы между собой. В их основе один из излюбленных приемов древнерусской литературы – прием антитезы положительного и отрицательного героев (ср. в древнерусских текстах: праведник – грешник, свой – враг), которая актуализирована в названиях писем. В данном случае положительный герой – это адресат, в прошлом «друг» (ср.: «Преждебывшему моему приятелю, и сердечному благодетелю, истинным тайнам хранителю…» (с. 593) – «Другу»; «Преждебывшему общему нашему приятелю и сердечному благодетелю…» (с. 594) – «Недругу»), отрицательный герой – он же в настоящем «недруг» (ср.: «…ныне же грех ради моих супротивно обретеся моим неразумием и несмысленным малодушьем неподобный во приятельстве и недостойный в дружбе…» (с. 593) – «Другу»; «…ныне же грех ради наших супротивных обретеся, разумевай, совесть свою прокаженну имееши, такова же, якоже и ты, ни в безбожных языцех не обретается…» (с. 594) – «Недругу»). Как можно заметить, в первой части характеристики автор отдает дань эпистолярной традиции комплиментарного обращения к корреспонденту и за счет маркированной лексики («приятель», «сердечный»), пусть и вводимой очень дозированно, актуализирует традицию дружеского письма. Он как бы напоминает адресату, что тот имел, будучи другом, и что потерял. Вторая же часть характеристики продолжает древнерусскую традицию самоуничижения автора («грех ради моих»). В данном случае она – очень ненадолго и своеобразно – создает обычную для дружеского письма ситуацию «равноправия» корреспондентов, их сердечной близости друг другу. Своеобразие ее в том, что оба позиционируются несовершенными, грешными. Но один изменил дружбе, а другой нет. Это «другой», автор, как бы храня память о прежних отношениях, через уничижительную самохарактеристику смягчает резкий тон дальнейшего текста, если в чем-то и наследующего древнерусской эпистолярной традиции, то традиции обличительного послания. На нее накладывается господствующая традиция античного «антидружеского» письма.
Два других «антидружеских» послания – «Другу с лаею» и «Непостоянну другу с посме-хом» – связаны с образцами демократической сатиры, впервые появившимися в русской литературе как раз в XVII в. и приобретшими большую популярность. В особенности с теми из них, в основе которых лежит пародия. Последняя, как известно, играет важную роль в переломные периоды развития литературы, каковым и был XVII в.
Вопрос о пародии по отношению к произведениям демократической сатиры XVII столетия неоднократно поднимался, прежде всего такими крупными специалистами, как В. П. Ад-рианова-Перетц [1937; 1977], Д. С. Лихачев [1984], Е. К. Ромодановская [1994. С. 165–180].
Он был ими решен единодушно и очень убедительно. Ученые справедливо обратили внимание на своеобразие пародий XVII в., не демонстрирующих таких характернейших для этого жанра черт, как пародирование какого-либо литературного направления, индивидуального авторского стиля, мировоззрения и т. п. (ср. характеристику пародии: [Бен, 1968; Морозов, 1960; Новиков, 1989. С. 5–122; Сысоева, 2013; Тынянов, 1977 а; 1977 б]). «…Средневековая пародия и не может бороться с какими-либо литературными направлениями, поскольку самого понятия о последних еще не существует, оно появится лишь в Новое время. Не могут осмеиваться и автор, его индивидуальный стиль и мировоззрение, поскольку представление об авторской индивидуальности, о “личностном начале” в литературе еще только зарождается и далеко еще не утвердилось», – писала Е. К. Ромодановская [1994. С. 168–169]. Она пришла к заключению, что «средневековая пародия <…> не может быть определена как пародия» в полном смысле этого слова [Там же. C. 175]. К такому же заключению пришли и другие специалисты. «…Древнерусские пародии вообще не являются пародиями в современном смысле, – замечал Д. С. Лихачев. – Это пародии особые – средневековые» [1984. С. 10]. Опираясь на разработанную А. Морозовым классификацию пародии: юмористическая, или шуточная пародия, сатирическая пародия и пародийное использование [Морозов, 1960. С. 68], – Е. К. Ромодановская поставила вопрос об отнесении пародии XVII в. к последнему типу [Ромодановская, 1994. С. 175]. Исследовательница сделала бесспорный и очень важный вывод, подведя итог и своим размышлениям, и размышлениям своих коллег: «…сам факт появления пародии в эпоху перехода от древней литературы к литературе нового времени ставит ее в ряд открытий, предваряющих иную художественную систему, где жанр пародии занимает видное место. Именно поэтому более существенными представляются черты сходства, чем различия между памятниками XVII в. и позднейшими образцами жанра» [Там же. C. 176]. Действительно, пародирование – неотъемлемая часть беллетризации и секуляризации литературы XVII в.
Исследователи русской демократической сатиры XVII в., вторя друг другу, справедливо указывали, что в ней имеет место пародирование не чего-либо иного, как наиболее важной для древнерусской литературы и наиболее устойчивой в ней категории – жанра, определявшего, как известно, и стиль. «Пародируется сложившаяся, твердо установленная, упорядоченная форма, обладающая собственными, только ей присущими признаками – знаковой системой, – указывал Д. С. Лихачев. – Изучая <…> древнерусские пародии, можно составить довольно точное представление о том, что считалось обязательным <…>, что являлось признаком, знаком, по которому мог быть распознан тот или иной <…> жанр» [1984. С. 11]. Поэтому пародировались в первую очередь самые устойчивые и потому самые узнаваемые жанры – деловой (челобитная, роспись о приданом, судопроизводственные документы и т. п.) и церковной (житие, молитва, акафист, церковная служба и т. п.) письменности (ср.: «Калязинская челобитная», «Роспись о приданом», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Праздник кабацких ярыжек, или Служба кабаку» и др.). В этой связи факт пародирования эпистолярного жанра в вышеупомянутых образцах посланий «Азбучного письмовника» – «Другу с ла-ею» и «Непостоянну другу с посмехом» – архиважен. Рассматривая преимущественно пародии на жанры деловой и церковной письменности, исследователи незаслуженно обошли вниманием пародии на эпистолярный жанр. Между тем последние сигнализируют о том, что он сложился, занимает полноправное место в системе жанров литературы, безошибочно опознается авторами и читателями. Более того, сложился и опознается новый, «светский» вариант – дружеское письмо, ведь «Другу с лаею» и «Непостоянну другу с посмехом», как мы отмечали, представляют собой образцы «антидружеских» писем.
В обоих образцах посланий действует характерный и для других пародий XVII в. механизм: сохраняется узнаваемая жанровая форма, наполняющаяся инородным, совершенно неожиданным содержанием, вследствие чего создается отличающий пародию эффект «невязки» (термин Ю. Н. Тынянова). В рассматриваемых текстах традиция дружеского письма актуализируется за счет заглавия-адреса: «другу», и за счет концовки: «…другу моему имя- рек» (c. 594) - «Другу с лаею»; «...другу моему сердечному имярек» (с. 595) - «Непостоянну другу с посмехом». В обоих текстах представлено развернутое обращение к адресату, выдержанное в эпистолярных традициях. При всем том в каждом из двух посланий пародия на дружеское письмо рождается по-разному.
В первом, «Другу с лаею», налицо развернутое обращение к адресату, строящееся по принципу «комплимент наоборот», т. е. по сути оно антикомплиментарно. Это пародия на идеализирующую характеристику адресата, традиционную для эпистолярия в целом и для дружеского эпистолярия в частности, в том числе для многочисленных образцов дружеских посланий из «Азбучного письмовника».
А. С. Демин в свое время заметил, что в большинстве посланий «Азбучного письмовника» комплиментарное обращение к адресату содержит «эпитет “крепкий” и синонимичные ему», «все с одним главным значением устойчивости, неизменности, крепости адресата», таким образом, «каждая группа адресатов застывает в своих проявлениях идеально и на вечные времена» [Демин, 1963. С. 199]. Это наблюдение в полной мере распространяется и на дружеские послания. В «антидружеских» же, тоже справедливо обратил внимание исследователь, «все наоборот»: «главная черта» их адресатов - «отсутствие “крепости”, устойчивости, неизменности. Вчера они входили в число друзей, “ныне же обретаются супротивными”» [Там же. C. 200].Традиционным для дружеских посланий «Азбучного письмовника» характеристикам адресата: «крепость», «неизменность», также, добавим, соотнесенность с верхом, небом, - в послании «Другу с лаею» противопоставлено определение «столп повапленный» (c. 596), т. е., очевидно, ненастоящий и ненадежный. Думается, это отсылка сразу к двум библейским образам. Во-первых, к ветхозаветной вавилонской башне, строительство которой потерпело сокрушительную неудачу (Быт. 11: 1-9). Во-вторых, к евангельским «гробам повапленным» (церк.-слав. окрашенным), которым Христос уподобил фарисеев-лицемеров (Мф. 23: 27-28). Оба образа актуализируют семантему гордыни, амбициозности, себялюбия в степени эгоизма. Вследствие этих качеств началось строительство вавилонской башни, и этими же качествами было вызвано обличаемое Христом поведение фарисеев.
Вытекающей из соотнесенности адресата с верхом, небом характеристике через свет, тоже традиционной для дружеских посланий, в рассматриваемом послании противопоставлена гиперболизированная соотнесенность с тьмой («тьмы темные чаду помраченному», «ефиопу прегордому», «прелести помраченные» (с. 594)) либо же со светом, но искусственным: «телу (т. е. тельцу. - М. К .) позлащенному» (с. 594). Последняя характеристика представляет собой реминисценцию на библейский образ золотого тельца, которого соорудили себе для поклонения иудеи, пока Моисей слишком долго, по их представлениям, беседовал с истинным Богом (Исх. 32: 1-35). Тьма и искусственный свет символизируют заблуждение, отсутствие подлинной веры и света Христова, равно как и чистоты души. Речь опять идет о гордости и чрезмерном себялюбии адресата. «Ефиоп прегордый» не просто предпочел идола истинному Богу. Этот идол, «телец позлащенный», - он сам: до крайности надменный и самовлюбленный, адресат поклоняется только самому себе. Характерно, что в одном из азбуковников конца XVI в. к слову «ефиопи» приводится антоним «смирени», т. е. «смиренные», с пояснением, что в Священном Писании бесы именуются «аравлянами и ефиопами, и муринами» (цит. по: [Ковтун, Колесов, 1983. С. 393]). Как в первом послании Ивана Грозного к Андрею Курбскому, так и в рассматриваемом «антидружеском» письме слово «эфиоп» / «эфиопский» также, несомненно, актуализирует семантику «бесовский» (об этом семантическом плане см.: [Каравашкин, 1988. С. 67])6.
Не удивительно, что традиционному для дружеского эпистолярия мотиву преодоления расстояния между корреспондентами, их предельной духовной близости в рассматриваемом послании противопоставлен мотив крайнего отчуждения. Подчеркивая инородность и ино-верность адресата, автор характеризует его как «ефиопа» и относит к «племени ханаанскому, семени халдейскому, <…> роду ханаанскому», называет «Хамовым прирожением» (с. 594). Эти несколько строк состоят из многочисленных библейских реминисценций. Упоминаются народы, недружественные с иудеями: халдеи, у которых иудеи долгое время были в плену, и ханаане – презираемые иудеями язычники. Тем самым автор продолжает характеризовать адресата как идолопоклонника. А напоминая, что отец Ханаана – Хам, и возводя род адресата к нему, продолжает характеризовать адресата как гордеца: как известно, Хам увидел и объявил другим наготу своего отца, позлорадствовав по поводу его унижения и возгордившись собой; Ной же, узнав о содеянном Хамом, проклял Ханаана и определил ему быть «рабом рабов» у своих братьев (Быт. 9: 20-27).
Итак, нетрудно заметить, что традиционным для эпистолярия образам адресатов-праведников в рассматриваемом послании противопоставлен образ адресата-грешника, эгоиста и лицемера, находящегося в духовной «тьме» и прелести (ср.: «прелести помраченные»). Его крепость, высота и сияние разоблачаются автором письма и объявляются иллюзорными. Перенасыщенность текста библейскими реминисценциями, актуализирующими традицию древнерусского учительного послания, придают гневным инвективам автора безапелляционность, сверхавторитетность. Учительную интенцию актуализирует также поименование адресата «чадом» («тьмы темные чаду помраченному»). Оно, пусть и на время, ставит адресанта в положение над ним. Но поименование адресата «другом», открывающее и завершающее письмо, априори восстанавливает характерное для дружеского общения «равноправие» и несколько смягчает тон основной части письма. Очевидно, что это поименование очень положительно характеризует самого автора: он, несмотря ни на что, сохраняет дружеское расположение, любовь, доброту, милосердие, – в отличие от своего корреспондента. В результате рождается антитеза автора-праведника и адресата-грешника, «антитеза наоборот», если вспомнить эпистолярную традицию.
Как можно видеть, в послании в целом моделируется обычный для русских пародий XVII в. «мир наоборот». Это образ «антимира» [Лихачев, 1984. С. 17], «мира перевернутого, реально невозможного, абсурдного, дурацкого» [Там же. С. 15], по характеристике Д. С. Лихачева, описавшего его преимущественно через пародии на жанры деловой и церковной письменности. Очень важно, что наблюдения ученого актуальны и для эпистолярного жанра, тем самым предстающего органично включенным в современную ему систему жанров. Цель этого пародийного моделирования «антимира» в послании такая же, как и в других сатирических текстах XVII в.: «…обнажать, обнаруживать правду, раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности…» [Там же. С. 16]. Конечно, «обнажать правду» было легче всего именно в пародии на дружеское письмо, с учетом тех прав, той свободы общения, которые оно давало.
Но необходимо внести несколько поправок. Во-первых, изображаемый в послании «Другу с лаею» «антимир» не столько «дурацкий», сколько страшный. В этом тексте, на наш взгляд, актуализируется по большей части не секулярное отношение к смеху как к действу дозволенному, а средневековое, относящее его к сфере греховной и потому дьявольской. Моделируемый автором «антимир» предстает именно в «дьявольском» обличье. «Святость исключает смех, – напоминали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский. – Дьяволу (и всему дьявольскому миру) приписываются черты “святости наизнанку”, принадлежности к вывороченному “левому” миру. Поэтому этот мир кощунствен по самой своей сути, то есть несерьезен. Это мир хохочущий, не случайно черт именуется в России “шутом”» [Лотман, Успенский, 1977. С. 154]. «Внешний признак такого смеха», выявленный учеными: «…он не заразителен. Для людей, не связавших себя с сатаной, он не смешон, а ужасен» [Там же], – в полной мере аутентичен для рассматриваемого послания. Характерно, что «дьявольский» «антимир»
в нем моделируется на основе библейских образов (за счет чего происходит сакрализация текста), но с нарочито пейоративной коннотацией, вследствие чего христианские аксиологические ценности преподносятся вывернутыми «наизнанку».
Во-вторых, в отличие от других пародий XVII в., послание «Другу с лаею» категорически не предполагает включенности автора в сферу смехового «антимира», а потому не предполагает и осмеяния автора. Последний отнюдь не «“валяет дурака”», не «обращает смех на себя» [Лихачев, 1984, с. 15] (см. также: [Бахтин, 1990. С. 11–17]). В «антимир» включен и подлежит осмеянию только адресат письма. Поэтому, в отличие от других пародий, в том числе XVII в., актуализирующих двойную интенцию (с одной стороны, сатиры, а с другой – веселого смеха, юмора, шутки 7), «Другу с лаею» представляет собой в чистом виде сатиру. Будучи антиподами, адресат и автор этого послания позиционируются как принадлежащие к принципиально разным «мирам»: если первый находится во власти дьявола, то второй, по принципу антитезы, состоит под началом Христа. В этой позиции авторской «вненаходимо-сти» по отношению к изображаемому «антимиру» можно было бы увидеть характерную черту литературы Нового и Новейшего времени, но, поскольку в моделируемом в тесте мире автор все же присутствует, думается, точнее, говорить о начале процесса формирования указанной особенности.
Послание «Непостоянну другу с посмехом» предлагает читателю иной, не менее интересный вариант пародии на дружеское письмо.
Этот текст выстраивается нарочито сходно с другими, непародийными, текстами письмовника. Автор как бы маскирует его под дружеское письмо. Послание открывается комли-ментарным, очень образным обращением к адресату. Автор смотрит на него снизу вверх, идеализируя; он описывает его, как и адресатов других посланий, через сферы неба и света: «Уму высокопаривому, кровы насобные проходителю, воздух же и облаки мыслию пробива-телю, солнце и месяц и звезды умом и мыслию преходителю, и во вся земные концы парителю…» (c. 595). Заканчивается это обращение более чем традиционно: «…другу моему сердечному имярек» (c. 595). Но между «во вся земные концы парителю» и «другу моему сердечному имярек» стоит фраза: «разуму непостоянному» (c. 595), – совершенно обесценивающая как предыдущий, так и последующий текст. Содержание послания теперь предстает в противоположном свете. Похвалы адресату оказываются иллюзорными – чисто формальными. На поверку он не идеализируется, а высмеивается (симптоматично, что уже в заглавии заявлена интенция «посмеха») и подвергается критике. Как и в послании «Другу с лаею», адресат характеризуется через отсутствие качеств «крепости», «устойчивости», «неизменности». Основу его характеристики в данном случае составляют тропы, содержащие семантику движения: «ум высокопаривый», «проходитель», «пробиватель», «мыслию преходитель», «паритель», «разум непостоянный». Нетрудно заметить, что они синонимичны и потому в совокупности образуют гиперболу. Подчеркивая непостоянство адресата, автор, как это было и в послании «Другу с лаею», подчеркивает свою верность прежним отношениям. Он, несмотря ни на что, называет «непостоянного друга» – «другом» своим «сердечным». Тем самым, как и в послании «Другу с лаею», создается «антитеза наоборот» автора и адресата.
Однако если в послании «Другу с лаею» заявлена только сатирическая интенция и моделируется дьявольский «антимир», в который включен адресат, но никак не автор, то в рассматриваемом тексте ситуация более традиционная, такая же как и в других пародиях XVII в.: моделируемый мир не столько страшный, сколько именно «дурацкий». Описывая его, автор «“валяет дурака”», вследствие чего не занимает позиции категорической «внена-ходимости» по отношению к этому миру. Чувствуется, что он и адресат легко могут поменяться местами и вволю дурачить друг друга. Дело в том, что, подобно другим пародиям XVII в., послание «Непостоянну другу с посмехом» (исходя из содержания и заглавия: «…с посмехом») позволяет актуализировать разные виды комического. Текст можно прочитать и как подлинно «антидружеский», отповедь неверному другу, и как дружескую шутку. В первом случае это образец сатиры. Во втором – юмора, задолго предваряющего шуточные дружеские послания, по форме грубые, по сути доброжелательные, которые войдут в широкий обиход, скажем, в переписке пушкинского круга и круга Н. В. Станкевича. Единичные образцы подобных писем представлены в XVII в. и за пределами письмовника. Одно из них – шуточное послание стрельцов Никиты Гладкого и Алексея Стрижова к поэту Сильвестру Медведеву, датируемое 1680-ми гг., опубликовано в работе Д. С. Лихачева [1984. С. 8] 8.
Оба рассмотренных нами пародийных послания, в особенности второе, соотносимы с такими «классическими» образцами пародии XVII в., как «Послание дворительное недругу», «Послание дворянина дворянину», «Послание сына, “от наготы гневного”, к отцу», включенные в состав «Азбучного письмовника», разный в разных списках. Эти тексты широко известны за пределами письмовника и не раз привлекали внимание исследователей, поэтому оставим их за пределами нашего внимания.
Разные камертоны эпистолярной коммуникации, апробируемые в «Азбучном письмовнике» и очень перспективные для дальнейшего развития эпистолярного жанра, разительно отличают этот письмовник от предыдущих.
Стремление разнообразить и индивидуализировать эпистолярную коммуникацию, казалось бы, не предполагаемое письмовником, в «Азбучном письмовнике» проявляется беспрецедентно ярко. Характерно, что он содержит немалое количество писем к лицам, занимающим одно и то же положение (друг, воевода, старец, святитель и др.) или очень близкое, различающееся лишь нюансами («подначальный старец», «млад старец» и т. п.). Эти письма хотя в большинстве своем и очень схожи, – не идентичны друг другу. Обратив внимание на «варьирование посланий к одним и тем же лицам» [Демин, 1963. С. 204], А. С. Демин убедительно объяснял указанную особенность учебными целями. Он обратил внимание, что «Азбучный письмовник» дошел до нас в окружении учебных азбуковников, и резонно предположил, что наряду с ними он применялся в учебных целях. Но важно подчеркнуть, что такой письмовник создается именно в ту эпоху, когда в русской литературе упрочивается установка на индивидуализацию. Составитель не просто учит своих читателей писать письма. Он учит индивидуализировать эпистолярное общение с учетом личностей адресата и адресанта, их взаимоотношений, целей переписки и в целом коммуникативной ситуации. Это важнейшая особенность эпистолярного жанра, очень слабо выраженная в прежних образцах – учительного и делового послания – и впервые так четко представленная в «Азбучном письмовнике». Она и в дальнейшем сохранит актуальность для дружеского письма.
Возможно, именно стремлением к индивидуализации обусловлено то, что в «Азбучном письмовнике» представлены только начала посланий – развернутые обращения к адресатам, содержащие характеристики последних. Пытаясь разнообразить эти обращения, составитель даже не берется предлагать образцы семантем и клаузул. Он как бы оставляет их содержание всецело на усмотрение авторов писем.
При всем том новаторский характер «Азбучного письмовника» все же не стоит переоценивать. Речь может идти не более чем о стремлении составителя разнообразить и индивидуализировать эпистолярную коммуникацию. Нельзя признать, что оно очень успешно реализовано. Некоторые послания действительно вариативны, подобно вышерассмотренным «антидружеским» пародийным. Но их не много. В большинстве своем тексты однотипны.
Это позволило А. С. Демину типологизировать адресатов. Разделив их на несколько групп, он отметил, что, во-первых, каждая «…занята одним делом или пребывает в одном состоянии: духовные адресаты молятся, военные воюют, друзья любят и помогают <…>. Во-вторых, каждая группа общается с одним кругом лиц <…>. Матери, сестры, жены живут одиноко: автор сравнивает их с <…> “пустынными горлицами” <…>. В-третьих, каждую группу отличает одна внешняя примета: <…> военные уязвлены “частыми язвами”, друзья имеют “цветущие” лица <…>. Наконец, в-четвертых, каждая группа находится в определенном настроении: духовные адресаты испытывают “бесплотную радость” <…>. Друзья и члены семьи “тихи”, “кротки”, “благоуветливы” <…>. Очень редко автор упоминает женское “улыбание и смех”. Итак, каждая группа у автора словно застыла в характерном положении» [Демин, 1963. С. 197–198]. Соглашаясь с А. С. Деминым, подчеркнем, что автор пытается дифференцировать адресатов внутри каждой группы. Так, в послании «К подначальному старцу» он объявляет своего корреспондента «в послушании пребывающим» (c. 590), а в послании «К старцу ко авве» – «честными сединами преукрашенным» (с. 591).
Но даже подобная простейшая, основанная на чисто внешних признаках дифференциация удается автору не всегда. Например, в посланиях «К иноку» и «К старцу во обитель» корреспонденты получают идентичную характеристику, и оба, как и «подначальный старец» и старец «авва», именуются «великими старцами» (с. 590, 591). Более того, нельзя не отметить, что не только внутри каждой отдельной группы из выделенных А. С. Деминым, но и вообще в большинстве посланий «Азбучного письмовника» образы адресатов схожи, будь то священнослужители, монахи или миряне, родные или знакомые. Все, за исключением «недругов», изображаются, с одной стороны, как благочестивые христиане, а с другой – вследствие этого, как люди, безупречно выполняющие свое земное предназначение. Таким образом, традиционная для древнерусского эпистолярия духовная характеристика адресатов гармонично сочетается с играющей к началу XVII в. все более важную роль «земной».
Не удивительно, что «Азбучный письмовник» пользовался особой популярностью у читателей и дошел до нас в нескольких списках. Его состав в них не просто неодинаков, как мы указывали выше. По удачному определению Д. М. Буланина, из всех письмовников он «наиболее текучий по составу» [1989. С. 191]. Очевидно, что пользователи принимали его как актуальный и демократичный и смело экспериментировали с ним, корректируя его состав. Возможно, текст письмовника корректировался и пополнялся на протяжении второй половины XVI – первой половины XVII в. «Азбучный письмовник» очень быстро испытывал на себе влияние современной ему литературы и одновременно, надо полагать, сам оказывал его. Он ярко отобразил общие тенденции развития русской литературы рубежа XVI–XVII вв.
Received
23.03.2020
Список литературы "Азбучный письмовник" в истории русской литературы
- Адрианова-Перетц В. П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в. М.; Л., 1937. 261 с.
- Адрианова-Перетц В. П. У истоков русской сатиры // Русская демократическая сатира XVII века / Подгот. текстов, ст. и коммент. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., доп. М., 1977. С. 107–142.
- Азбучный письмовник // Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII в. От Илариона до Ломоносова / Отв. ред. В. П. Гребенюк. М., 2003. С. 588–600.
- Бахтин М. М. Творчество Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. 543 с.
- Бен Г. Е. Пародия // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1968. Т. 5. С. 604–607.
- Буланин Д. М. Письмовники // Словарь книжников и книжности Древней Руси: В 3 вып. / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1989. Вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 2. С. 188–193.
- Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. 465 с.
- Демин А. С. Русские письмовники XV–XVII веков (К вопросу о русской эпистолярной культуре): Дис. … канд. филол. наук. Л., 1963. 454 с.
- Демин А. С. Демократическая поэзия XVII века в письмовниках и сборниках виршевых посланий // ТОДРЛ. М.; Л., 1965. Т. 21. С. 74–79.
- Демин А. С. Литературные черты древнерусских письмовников // Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII в. От Илариона до Ломоносова / Отв. ред. В. П. Гребенюк. М., 2003. С. 178–605.
- Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. 416 с.
- Каравашкин А. В. Способы изображения исторических лиц в посланиях Ивана Грозного // Литература Древней Руси: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1988. С. 57–68.
- Ковтун Л. С., Колесов В. В. Новый труд о древних теориях искусства на Руси // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 391–400.
- Лихачев Д. С. Предвозрождение на Руси в конце XIV – первой половине XV в. // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967. С. 136–182.
- Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы X–XVII вв. // Русская литература. 1972. № 2. С. 3–36.
- Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 7–71.
- Лихачев Д. С. Любовное письмо XVII века // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 389–390.
- Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. 3-е изд. СПб., 1998. 206 с.
- Лотман Ю., Успенский Б. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–166.
- Майков Л. Н. Любовное послание XVII века // Майков Л. Н. Очерки по истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889. С. 229–233.
- Морозов А. Пародия как литературный жанр (К теории пародии) // Русская литература. 1960. № 1. С. 48–77.
- Новиков В. И. Книга о пародии. М., 1989. 540 с.
- Повесть о Савве Грудцыне // Русская бытовая повесть XV–XVII веков / Сост., вступ. ст., коммент. А. Н. Ужанкова. М., 1991. С. 309–328.
- Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. 232 с.
- Сысоева О. А. Литературная пародия: проблема жанра // Вестник Нижегород. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 5 (1). С. 330–335.
- Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977а. С. 198–226.
- Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 197б. С. 284–310.
- Шунков А. В. Авторское слово в русской эпистолографии 2-й половины XVII века (на материале семейной переписки царя Алексея Михайловича) // Acta Neophilologica. 2010. № 12. С. 187–190.