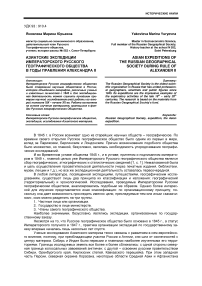Азиатские экспедиции императорского русского географического общества в годы правления Александра II
Автор: Яковлева Марина Юрьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Императорское Русское географическое общество было старейшим научным обществом в России, которое объединяло географов, различных ученых и известных личностей с 1845 г. Его экспедиционная деятельность может служить ярчайшим примером научной исследовательской работы во второй половине XIX - начале XX вв. Работа выполнена на основе изучения материалов, хранящихся в фондах Русского географического Общества.
Императорское русское географическое общество, экспедиция, исследования азиатского материка
Короткий адрес: https://sciup.org/14935139
IDR: 14935139 | УДК: 93
Текст научной статьи Азиатские экспедиции императорского русского географического общества в годы правления Александра II
В 1845 г. в России возникает одно из старейших научных обществ – географическое. По времени своего открытия Русское географическое общество было одним из первых в мире, вслед за Парижским, Берлинским и Лондонским. Причин возникновения подобного общества было множество, но главной, безусловно, являлась необходимость упорядочивания географических исследований.
И во Временном уставе общества 1845 г., и в уставе, принятом и подписанном императором в 1849 г., главной целью уже Императорского Русского географического общества являлся сбор географических, этнографических и статистических сведений [1, c. 1]. Немаловажной была и цель осуществления просветительской деятельности (через печатные издания, библиотеки, музеи, лекции и т.д.), но все же экспедиционная деятельность оставалась первоочередной.
В любой литературе, посвященной экспедициям, путешествиям, географическим исследованиям, существуют лишь два принципа их классификации и изложения: географический (территориальный) и хронологический. Исследования, проводимые Императорским Русским географическим обществом, анализировались подобным же образом. Однако более интересной для изучения представляется иная классификация: по организационному принципу; поскольку она дает возможность проследить именно цели, преследуемые тем или иным «заказчиком», коих можно разделить на три группы.
-
1. Частные лица или организации.
-
2. Государство в лице министерств.
-
3. Члены самого географического общества.
Наиболее значимыми, безусловно, являлись экспедиции, организованные по государственному заказу.
Несмотря на то, что Русское географическое общество было основано в 1845 г., а статус Императорского получило в 1847 г., практика организации экспедиций по государственному заказу впервые началась лишь несколько лет спустя.
Ученые исследования Азиатского материка тесно связаны с развитием в нем европейского влияния, поэтому, при преобладающем участии России и Англии, они шли от оконечностей к центру материка. Сибирь и Индия были первыми и главными наиболее изученными его территориями. Границы исследуемых земель все более и более сближались: с одной стороны северная граница колоссальных завоеваний англичан; с другой – освоение русским правительством Сибири, Оренбургского края, Киргизских степей, Кавказского перешейка. При этом западная часть Персии, северная окраина Хорасана, некоторые области Средней Азии и Афганистана стали театром военных действий, местом соперничества англичан и русских и в политической, и в экономической, и в научной сферах.
Однако в середине XIX в. все еще оставалось малоизвестны геологические, растительные, метеорологические ресурсы этого края. В сущности, было практически невозможно определить и орографическую систему. Не были изучены промышленные богатства этих стран с целью выявления торгового и производственного потенциалов. Для этнографии и филологии эти территории представляли собой настоящий клад. Данные причины и обусловили острый интерес России к азиатскому региону во второй половине XIX в.
Почти сразу после принятия титула императора Александром II в 1856 г. по ведомству Кабинета его величества по высочайшему повелению Императорским Русским географическим обществом была отправлена экспедиция для составления топографической карты Алтайского горного округа. Для этой цели в состав экспедиции были включены в основном топографы и межевые инженеры [2, c. 35].
Однако попутно Русское географическое общество постаралось соблюсти и свои научные интересы, усилив состав экспедиции для выполнения исследований в области ботанической географии, метрологии и геологии [3].
Работы на Алтае проводились в течение всего лета и осени 1856 г., успешно выполнив все поставленные задачи и вернувшись в Санкт-Петербург в 1857 г. [4, c. 38]. К 1864 г. была составлена первая подробная топографическая карта Алтайского горного округа. Она явилась результатом работ экспедиции под руководством межевого инженера-полковника Ф. Мейена, направленной на территорию округа в 1856 г. Десятиверстная карта состоит из 30 листов. Несмотря на ряд неточностей, она была очень популярна и имела большое практическое значение. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вплоть до 1907 г. определение земельных площадей Алтайского Горного округа производилось по карте Мейена, хотя и с определенными оговорками. Карта была отпечатана в известном картографическом заведении А.А. Ильина в 1868 г. [5].
В 1857 г. организовывается одно из важнейших ученых предприятий общества – экспедиция в Хорасан, мысль о которой принадлежала Н.В. Ханыкову, прибывшему в то время в Петербург. Цель и пользу этой экспедиции он изложил Августейшему председателю общества великому князю Константину Николаевичу.
Практически все затраты на экспедицию взяли на себя правительственные структуры. Подъемные деньги выплачивались из Государственного казначейства, по местам службы откомандированных членов экспедиции им сохранялось жалование. Из сумм самого Императорского Русского географического общества были взяты лишь путевые деньги в размере от одной до двух тыс. руб. Остальные расходы взял на себя Азиатский департамент [6]. Три тыс. руб. пожертвовало Каспийское торговое товарищество. В безденежном снабжении необходимыми материалами и инструментами экспедиции содействовали министерства народного просвещения, финансов, иностранных дел, межевой корпус, генеральный штаб, гидрографический департамент, Академия Наук, Императорская Николаевская обсерватория, главная физическая обсерватория [7].
Начальником экспедиции был назначен действительный член Императорского Русского географического общества Николай Владимирович Ханыков. Всех остальных членов экспедиции подбирал уже он сам: для исследований в области ботаники и в качестве врача был приглашен профессор Императорского Дерптского университета Бунге, для геологических исследований – магистр Дерптского университета Гебель, для исследований в области математической и физической географии – преподаватель технического института Ленц. Сверх того в экспедицию от морского ведомства назначен капитан-лейтенант Ристори, за свой счет отправился граф Кайзерлинг, и в помощь профессору Бунге студент Дерптского университета Бинерт [8].
Прибыв в Баку к 15 марта 1858 г., экспедиция приступила к своим занятиям, начав небывалую по размаху Хорасанскую экспедицию Императорского Русского географического общества. Она отправилась из Баку и высадилась на южном берегу Каспия.
В Мазандеране и Астрабаде путешественники изучали местное плодоводство и особенно разведение апельсинов и лимонов. Была обследована также морская фауна побережья Мазан-дерана. Путешественники измеряли высоту, собирали растения, изучали направления ветров в Астрабадском заливе [9, c. 20].
В Тегеране Н.В. Ханыков встретился с шахом персидским. Шах и весь кабинет министров заверили, что они всемерно помогут русской экспедиции выполнить свои научные задачи на земле Персии. Из Тегерана до самого Мешеда русских натуралистов сопровождал почетный конвой – полтораста шахских конников с одной пушкой [10].
Исследовательские работы Ханыкова и его сотрудников проходили очень удачно. В горах к югу от Астрабада были обнаружены виды птиц, присущие горам Кавказа. Между Астрабадом и Мешедом – главным городом Хорасана – русские ученые осмотрели бирюзовые копи и места добычи соли. Все время велись работы с точными приборами: исследователи изучали земной магнетизм, измеряли высоты, производили астрономические определения, выясняли геологическую историю недр [11].
Экспедиция направилась к Герату. Ханыков с увлечением находил и разгадывал надписи на древних памятниках. Знакомясь с племенем хезарэ, жившим на пространстве от Мешеда до самого Кабула, он открыл тайну происхождения этого племени. Хезарэ были потомками узбеков, принудительно переселенных завоевателями около 1397 г. в Хорасан из Западного Туркестана [12, c. 17].
Из Герата русские путешественники отправились в пальмовые рощи Тебеса и подробно обследовали эту цветущую местность. Оказалось, что она была неправильно нанесена на карты прежними исследователями. Только русские съемки определили истинное положение Тебеса. Выяснилось, что он был закрыт горами от холодных ветров со стороны Гиндукуша, но теплый воздух свободно проникал в долину, и здесь даже осенью стояла почти тропическая жара [13].
Вернувшись в Герат, начальник Хорасанского похода занялся сбором древних афганских и персидских рукописей и грамот. Он обошел кладбища Герата и зарисовал надгробные надписи, которые впоследствии позволили русским ориенталистам восстановить целые страницы истории эпохи Тимуридов [14].
Экспедиция провела в Герате зиму 1858–1859 г., занимаясь составлением плана города и определением долготы Герата. Выступая с его территории, Ханыков избрал не пройденный до тех пор никем из европейцев путь через Северный Сеистан, юг Хорасана и Кирман. Русские были первыми европейцами, пересекшими в 1859 г. безводную пустыню Лют. За ней начиналась малоизвестная персидская область Кирман. Здесь Ханыков вновь осматривал древние памятники. Ученые достигли Иезда и оттуда пошли на Исфахан. На этом отрезке пути были найдены растения, характерные и для флоры Киргизской степи [15].
Один из участников экспедиции проник в знаменитую пещеру Тафт с ее многоверстными лабиринтами и открыл там свинцовую руду и бирюзу. Возле самого Исфахана было найдено исполинское месторождение глауберовой соли, площадь которого была равна 6-ти квадратным милям!
Ханыков обследовал памятники Исфахана – былой столицы Персии, где еще сверкала позолота куполов и кровель древних мечетей. Ученому удалось собрать здесь большое количество восточных рукописей [16].
Работы экспедиции приближались к концу. 7 июня 1859 г. путешественники прибыли в Зергенде, где был размещен лагерь Российской миссии. Ханыков распростился со своими спутниками, оставив при себе магистра Гебеля и топографа Жаринова. Вскоре, пройдя близ восточного берега Урмийского озера, путешественники достигли русской границы.
Итоги Хорасанской экспедиции вызвали радостное удивление петербургских ученых. Ханы-ков исследовал площадь, равную 350 тыс. квадратных верст! От Астрабада до Герата и от Герата до русской границы было определено астрономически положение ста пунктов. Еще в Исфахане экспедиции Ханыкова удалось связать свои работы со съемками, произведенными русскими исследователями Персии в 1852 г. Наша страна теперь имела самые обширные и точные сведения о поверхности этой страны. Таких данных не было ни у одного из государств Западной Европы. Собрано до 2 000 видов растений, богатые коллекции животных, 43 ящика образцов солей и минералов. Край также подвергся подробному археологическому и историческому обзору.
В середине XIX в. именно по отношению к территории Средней и Центральной Азии чувствовалась острая нехватка географических сведений и точных карт и топографических съемок в частности. С целью точного изучения Забалхашского и Заилийского края, ранее никем из русских ученых не исследованного, в 1858 г. была снаряжена экспедиция. В данных исследованиях существовала единственная известная отправная точка – впадение р. Лепсы в Балхаш, – определенная в 1834 г. Далее не ступала нога русского ученого.
Было решено изучить территорию между оз. Балхашем и хребтами Тарбагатаем, Джунгарским Алатау и Тянь-Шанем, то есть русскую часть Джунгарии. Но под видом рядовой географической экспедиции решили досконально изучить и китайскую часть данной территории [17].
Финансирование исследований осуществлялось Генеральным Штабом с небольшим содействием географического общества [18]. Возглавил экспедицию капитан А.Ф. Голубев, которому было поручено точно определить основные населенные пункты исследуемой территории и все существующие горные проходы. В помощь ему был назначен топограф Мотков. Сбором общегеографических сведений и различных физических наблюдений было разрешено заняться только при возможном наличии свободного времени [19].
Отправившись к оз. Иссык-куль, Голубев с вверенной ему экспедицией оказался в самом центре военных действий между киргизскими племенами богинцев и сары-багишей. Для наших исследователей это могло иметь фатальные последствия, поскольку сары-багиши, находивши- еся в подданстве у кокандского хана, узнав о появлении русских, отправили к хану донесение и ожидали прихода значительного вооруженного отряда.
Такое положение дел вынудило экспедицию изменить маршрут и заняться изучением земель к востоку от р. Каркары, заселенных верноподданными ордами богинцев. Однако исследованный проход Муссарат оказался не менее важным, чем Заукинский, поскольку не был известен до этого момента ни одному европейцу в мире и привел к китайскому местечку – Сумбе [20].
К возвращению Голубева на Каркару его уже ожидал вооруженный отряд из 50 казаков для конвоя и известие, что для удержания сары-багишей от враждебных действий будут приняты надлежащие меры. Это позволило вернуться к намеченному ранее маршруту исследования территории, но все же не в полной мере. Заукинский проход в Кашгар так и не удалось исследовать из-за столкновений с племенами сары-багишей на р. Джиргалан и к югу от устья Туба, так как дальнейшее продвижение на юг грозило полным уничтожением всего отряда. Пришлось повернуть на север и Кескеленским проходом добираться до поселения Верное. Оттуда Голубев направился с проверкой новых военных укреплений на р. Кестек и на Или [21].
Несмотря на неблагоприятные условия, Голубеву все же удалось определить основные пункты Заилийского края, в том числе пограничные реки России с Китаем и китайское местечко Сумбе. Еще два месяца ушли на исследования китайской Илийской провинции. Также удалось воспользоваться случаем и посетить китайский г. Кульджу и пограничный китайский пикет Бо-рохуджир, чтобы снять подробный план местности и всего города [22].
К зиме 1859 г. исследования Заилийского и Забалхашского краев благополучно завершились. Результаты, предоставленные в Генеральный Штаб, сыграли не последнюю роль в подписанном в 1860 г. в Пекине договоре о разграничении русских владений в западном Китае. Граница теперь пролегала от верховьев Енисея до снежных гор Тянь-Шаня и на юг от оз. Иссык-куля, до оз. Зайсан, по хребту Джунгарского Алатау, пересекла р. Или и следовала до ко-кандских пределов.
Теперь требовалось уже детальное изучение новоприобретенных территорий во всех аспектах, в том числе и географических. Для этих целей министерство иностранных дел предложило Императорскому Русскому географическому обществу крупномасштабную экспедицию к 1862 г., на что общество с радостью согласилось. Но, поскольку действия исследователей полностью зависели от деятельности демаркационной комиссии и различных политических обстоятельств, Географическое общество первоначально ограничилось лишь метеорологическими и астрономическими исследованиями под руководством К.В. Струве.
По указаниям академика К.С. Веселовского, путешественники установили максимально возможные точки климатических и метеорологических наблюдений, в том числе и ежедневные наблюдения в г. Сергиополе [23, с. 18]. Сделано это было для обоснования теории климатических изменений в Европе под влиянием климатических изменений в Азии, о которых практически ничего еще не было известно. Уже известный нам А.Ф. Голубев попутно занялся тригонометрической съемкой местности. Одновременно с астрономическими наблюдениями сделаны были и магнитные – для установки более точных координат г. Чугучак. Для будущих географических работ на нашей с западным Китаем границе это местечко должно было служить исходной точкой. Будучи членом демаркационной комиссии, А.Ф. Голубев также предоставил топографические сведения о горной местности между Тарбагатау и Алатау [24].
В 1863 г. экспедиция перешла к топографическим съемкам и геологической разведке. В результате тщательных продолжительных исследований были сделаны подробные карты местности и, самое главное, был открыт каменноугольный бассейн в Каратаусских горах. Открытие каменного угля в этой местности имело первостепенную важность для транспорта всей Сыр-Дарьинской линии, страдающей от недостатка топлива, и для Аральской флотилии, для которой минеральное топливо ранее были вынуждены привозить с Дона [25, с. 51–57].
В 1865 г. Военное министерство пригласило географическое общество к участию в Зачуй-ской экспедиции в Туркестан в сопровождение похода генерала Черняева [26]. По первоначальному плану исследования должны были проходить 2 года по двум направлениям: математической и физической географии. Первое должно было заниматься астрономическими и топографическими работами, второе – геологическими работами, составлением естественно-исторических коллекций, метеорологическими наблюдениями и анализом производительных средств Зачуйско-го края [27, c. 15]. Руководителями экспедиции были назначены К.В. Струве и Н.А. Северцов.
В северных предгорьях Киргизского хребта была составлена карта геологических формаций названного района. Обогнув Киргизский хребет с запада, Северцов и Фрезе вышли по долине р. Таласа к р. Кара-бура. Затем прошли к верховьям Чаткала (Кара-кыспак). На этом пути Северцов производил разносторонние геологические и общегеографические исследования.
Еще одна экскурсия во время этой поездки была совершена Северцовым в южные предгорья Киргизского хребта. Он исследовал его геологическое строение, что послужило материалом для геологической карты.
21 сентября, после двухдневного штурма, генералом Черняевым была взята кокандская крепость Чимкент. Северцов, выехавший 12 сентября на экскурсию в направлении Чимкента, как раз оказался вблизи крепости к разгару военных действий и, таким образом, стал невольным участником штурма, за что и был пожалован кавалером ордена Св. Анны II степени с мечами.
После взятия Чимкента Северцов энергично принялся за тщательное изучение местности, интересуясь, как и в течение всей этой экспедиции, преимущественно географическими, геологическими и этнографическими сведениями и лишь попутно производя зоологические и ботанические сборы.
В 1869 г. географическое общество получило приглашение от морского министерства принять участие в экспедиции на Амур, куда отправляется правительственная комиссия под предводительством генерал-адъютанта Соколова. Совет общества с радостью согласился и занялся срочным составлением программы предстоящих исследований [28]. Самой подходящей кандидатурой стал известный китаевед архимандрит Палладий Кафаров.
В 1870 г. Палладий по поручению Русского географического общества выехал из Пекина в сопровождении топографа Гавриила Нахвальных. Они двинулись в Маньчжурию по Ляодунской дороге.
Нахвальных производил съемку, а Палладий неутомимо исследовал памятники старины. Он открыл их возле Мукдена, а затем на землях русского Дальнего Востока. Путешественники посетили Гирин, Цицикар, Мерген, Айгун и достигли Благовещенска. Оттуда они проследовали на тогдашнюю Хабаровку, побывали на Уссури, оз. Ханка и вышли на Владивосток.
Весной 1871 г. Палладий и Нахвальных отправились на шхуне «Восток» в Тихий океан и осмотрели Новгородский пост, бухту Находка, залив Ольги и возвратились через Нагасаки в Пекин.
Во время путешествия были открыты остатки старинных городов, укреплений, морских портов, былых торговых путей Дальнего Востока и собраны богатейшие данные о Маньчжурии.
В русской печати появились новые труды Палладия, в том числе исторический очерк Уссурийского края, «Дорожные заметки на пути из Пекина до Благовещенска через Маньчжурию» [29].
В том же 1870 г. Императорское Русское географическое общество предприняло экспедицию в Западную Монголию, снаряженную Азиатским департаментом министерства иностранных дел. Должно было изыскать новые пути и способы развития торговых отношений Сибири с Западной Монголией [30, c. 24].
По сведениям, собранным топографом Матусовским, все дороги, ведущие из Минусинского округа в пределы Монголии, пересекают два значительных горных хребта: Саянский и Тану-Ола. Проходы через последний хребет не представляют особых затруднений для навьюченных караванов, но пути через Саянский хребет до крайности затруднительны. Водяной же путь вверх по Енисею тоже неудобен и трудоемок из-за большого количества порогов и подводных камней. Таким образом было решено, что удобнее всего отправлять товары в Западную Монголию зимой на санях по замерзшему Енисею. Матусовским же была проделана огромная подробная съемка местности от томско-китайской границы до границы Минусийского округа и составлена карта Западной Монголии. Он собрал сведения о загадочном оз. Кызыл-Баш, о путях через южный Алтай, успел осмотреть наиболее замечательную озерную группу в Западной Монголии Икэ-арал-нор. Экспедиция сделала открытия, доселе не известные мировой науке [31].
В 1871 г., по удачном возвращении экспедиции в Россию, в Западной Сибири была немедленно организована компания для торговых предприятий в Монголии.
Согласовывая свои действия с правительственными интересами, Императорское Русское географическое общество предприняло в 1873 г. военную экспедицию в Хиву совместно с нашими войсками по согласованию с Туркестанским генерал-губернатором и почетным членом географического общества К. П. Кауфманом [32].
Не вдаваясь в подробности протекания хода экспедиции, следует обратить внимание на неоценимую значимость добытых результатов. Была подробно изучена хивинская культура, получены результаты магнитных и астрономических наблюдений, взяты образцы вод из Аральского моря, окаменелости с берегов Аму-Дарьи. Исследования Глуховского пролили новый свет на русло Окса и его водную наполняемость [33, c. 7].
Военный поход в Хивинское ханство в 1873 г. и совместная с ним экспедиция вновь пробудили внимание к Арало-Каспийской низменности. Было решено организовать экспедицию для подробного изучения местности.
На расходы экспедиции было высочайше назначено 20 000 руб. [34, c. 18–21].
О важности намечаемой экспедиции говорит тот факт, что начальство было возложено на его императорское высочество великого князя Николая Константиновича. Но из-за его болезни руководство на себя был вынужден взять полковник Н.Г. Столетов.
Все отделы экспедиции успешно разрешили поставленные перед ними задачи и достигли больших результатов: были составлены карты - географические, топографические и геологические.
Несмотря на чрезвычайные затруднения для нивелировки и в песках и в дельте Амударьи, топографической съемкой было охвачено свыше 3 тыс. км2. Нивелировкой между Аму- и Сыр-дарьей был решен положительно поставленный Северцовым вопрос о возможности водного соединения обоих бассейнов через Джаны-дарью. В гидрографическом отношении было сделано множество поперечных профилей, определений скорости течений, исследований свойств грунта. Весьма тщательно были изучены рукава дельты Аму-дарьи, Улькун-дарьи, Ку-ван-джарма, группа Даукаринских озер и т.д.
Были основаны две метеорологические станции: в Нукусе и в Петроалександровске. Благодаря их систематической работе Русское географическое общество получило ценные сведения о климате неизвестного до того края.
Кроме того, было собрано много полезных материалов об экономике края, о его населении, исторических памятниках, населенных пунктах и т.п. Помимо ценнейших коллекций естественно-исторических и этнографических и различных карт, участниками этой экспедиции географическому обществу было доставлено множество статей и отчетов, напечатанных в периодических изданиях Общества. Художником Каразиным был составлен большой альбом разнообразных рисунков, живо характеризующих природу и население края.
В общем итоге Амударьинская экспедиция 1874–1875 гг. положила начало дальнейшему всестороннему и систематическому изучению края. С полным основанием эту экспедицию считают самым замечательным исследованием того периода в южной части Средней Азии.
Огромные суммы министерство финансов выделило на экспедицию Пржевальского Н.М. в 1876 г. Стоимость планируемых исследований на Лоб-Норе и в Тибете составила 24 700 руб. [35].
В августе 1876 г. из Кульджи отряд отправился в Восточный Тянь-Шань, далее - по Тариму - на Лобнор и до Гималаев. Южнее Лобнора был открыт хребет Алтынтаг, что позволило более точно установить северную границу Тибета. Только спустя 8 лет, во время своего четвертого путешествия, Н.М. Пржевальский смог пересечь этот хребет и дать его детальное описание [36, с. 18-22].
Н.М. Пржевальский считал свое Второе Центральноазиатское путешествие неудавшимся, однако именно после экспедиции на Лобнор он был награжден Берлинским географическим обществом Большой золотой медалью им. Гумбольдта, а Российская академия наук избрала его своим почетным членом.
В это же время состоялось другое крупномасштабное исследование азиатских территорий, а именно путешествие в северо-западную Монголию. Необходимость исследования части Монголии к югу от Томской и Енисейской губерний стояла очень остро, она была практически не исследована.
Проект предстоящей экспедиции заинтересовал министерство финансов. С упразднением в 1868 г. оренбургской и западно-сибирской таможенных линий, вся восточная граница Российской Империи от Иркутска до Астрахани оставалась без таможенного надзора. Между тем русская торговля по этой границе, привлекаемая развивающимися потребностями в Сибирских губерниях и Туркестанском крае, получила особое развитие. Явилась необходимость в подробном и точном исследовании торговых пунктов и направлений торгового движения, а также количества и рода товаров, которые могли бы составить предмет торговли. Для этого из сумм казначейства было выделено 3 тыс. руб. серебром [37]. К организации экспедиции присоединился и департамент таможенных сборов.
Первая часть пути должна была пролегать через степные пространства, населенные кочевниками, вторая - по горной альпийской стране, прилегающей с юга к российским границам, населенной скотоводами и звероловами. В начале мая 1876 г. экспедиции в составе Григория Николаевича Потанина, кандидата восточных языков Позднеева и подпоручика корпуса военных топографов Рафаилова двинулась в путь из Петербурга. Экспедиция в течение 2-х лет подробно исследовала эту страну, причем были собраны богатые данные по всем отраслям географических знаний.
Торговля исключительно меновая, довольно значительна. Большей частью она находилась в руках китайцев и сосредоточивалась в городах и поселках. Обмен продуктов между Монголией и Китаем необходим: монгол нуждается в китайском кирпичном чае и бумажных тканях, китайцы -во вьючных животных, скоте для пищи и продуктах скотоводства (кожи, мерлушки, шерсть, волос и другом). Помимо торговли скотом, из Монголии вывозится в Китай соль, собираемая в местных соляных озерах и продаваемая главнейшим образом в Калгане и Куку-хото; сюда же направляются бревна и доски, приготовляемые в лесах Гэнтэйя: вывозятся еще дикая сассапарель, солодковый корень, ревень, грибы и прочее. Взамен этих товаров китайцы привозят кирпичный чай, большое количество бумажных товаров как собственного изделия, так и английского и американского производства, металлические изделия – котлы, топоры, чайники, ножи, идолы, муку ячменную и пшеничную, крупу, кухонную утварь, бумагу, трубки, табак, четки, кораллы и т.д.
Торговля Монголии с Россией менее значительна, но год от года становится обширнее и принимает более правильную постановку. Искони она велась главнейшим образом в западной Монголии. Вывозят русские в Монголию преимущественно кожи и бумажные ткани, затем плис, сукно и металлические изделия; из Монголии получают скот, шкуры, меха, шерсть, волос, соль и другое. Из западной Монголии начался вывоз шерсти и увеличился вывоз к нам сурковых шкур. В северо-восточной Монголии сами русские не ведут собственной торговли почти никакой, но торгующие здесь китайцы почти сплошь продают русские произведения. Перевозка чая, вывозимого русскими из Китая, дает монголам не менее 2 млн руб.
Пути сообщения в Монголии, исключительно грунтовые, разделяются на почтовые и караванные, а последние, в свою очередь – на караванные вьючные, допускающие и тележное движение, и караванные тропы, где можно ходить только вьюками. Почтовое сообщение учреждено только для правительства; частные лица не могут им пользоваться. Расходы на содержание этого сообщения падают на население всей страны; правительство помогает ему лишь ничтожными средствами. Все торговые тракты представляют собой не постоянные и определенные путевые ленты, а только направления, по которым следуют караваны [38, c. 36–39; 39, c. 29–38].
Таковы важнейшие результаты исследований Потанина, положившие начало целой серии его дальнейших экспедиций в Азию.
Целая серия небольших экспедиций в рамках Императорского Русского географического общества была проведена в 1877–1878 гг. по инициативе и на средства Туркестанского генерал-губернатора К.П. фон-Кауфмана: исследование сельскохозяйственных условий Туркестана, геологические исследования и т.д. Они же положили начало различным экспедициям, организованным не министерствами и центральным правительственным аппаратом, а местными органами власти в лице губернаторов. Так в 1878 г. была организована экспедиция Певцова в Куку-Хото на средства генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова. В 1879 г. проходила поездка Ма-ева в Бухарское ханство на средства и по поручению Туркестанского генерал-губернатора.
Это были последние азиатские исследования, проведенные Императорским Русским географическим обществом в годы правления Александра II.
Именно за годы правления Александра II, обусловленные внешнеполитическими причинами, проводились наиболее крупные и значимые исследования азиатского материка. В результате Россия стала флагманом в изучении Центральной и Средней Азии, Дальнего Востока, и т.д. Расширила свои границы, максимально приблизившись к границам колониальных владений Англии на Востоке. Однако в последующие царствования практика проведения азиатских исследований начинает затухать и окончательно прекращается уже в годы правления Николая II.
Ссылки:
-
1. Временный устав Русского Географического общества. СПб., 1846.
-
2. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1856 год. СПб., 1857.
-
3. АРГО. Ф. 1–1856. Оп. 1. Д. 11. Л. 64.
-
4. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1857 год. СПб., 1858.
-
5. Топографическая карта Алтайского горного округа // Картографическое заведение А. Ильина. 1868.
-
6. Отчет Императорского Русского … 1858. С. 40.
-
7. АРГО. Ф. 1– 1857. Оп. 1. Д. 24. Л. 211–216.
-
8. Отчет Императорского Русского … 1858. С. 41.
-
9. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1858 год. СПб., 1859.
-
10. Там же. С.21.
-
11. Там же. С.22.
-
12. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1859 год. СПб., 1860.
-
13. Там же. С.21.
-
14. Там же. С.20.
-
15. Там же. С. 22–27.
-
16. Там же. С.29.
-
17. Отчет Императорского Русского … 1858. С. 25.
-
18. АРГО. Ф. 1–1858. Оп. 1. Д. 23. Л. 8.
-
19. Отчет Императорского Русского … 1860. С. 33.
-
20. Там же. С.34.
-
21. Там же. С.35.
-
22. Там же. С.36.
-
23. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1862 год. СПб., 1863.
-
24. Там же. С. 18–21.
-
25. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1863 год. СПб., 1864.
-
26. АРГО. Ф. 1–1865. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–4.
-
27. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1865 год. СПб., 1866.
-
28. АРГО. Ф. 1–1869. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.
-
29. Кафаров П.И. Дорожные заметки на пути из Пекина до Благовещенска через Маньчжурию // Записки Императорского Русского Географического общества по общей географии. Т. IV. СПб., 1871.
-
30. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1870 год. СПб., 1871.
-
31. Там же. С. 25.
-
32. АРГО. Ф. 1–1873. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–11.
-
33. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1873 год. СПб.,1874.
-
34. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1874 год. СПб.,1875.
-
35. АРГО. Ф. 1–1876. Оп. 1. Д. 10. Л. 137.
-
36. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1876 год. СПб.,1877.
-
37. Там же. С. 24.
-
38. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1877 год. СПб.,1878.
-
39. Отчет Императорского Русского Географического общества за 1878 год. СПб.,1879.