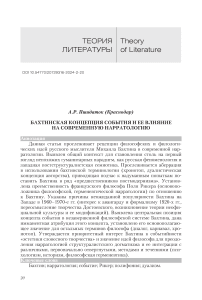Бахтинская концепция события и ее влияние на современную нарратологию
Автор: Пшидаток А.Р.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья прослеживает рецепции философских и филологических идей русского мыслителя Михаила Бахтина в современной нарратологии. Выявлен общий контекст для становления столь на первый взгляд непохожих гуманитарных парадигм, как русская феноменология и западная постструктуралистская семиотика. Прослеживается аберрация в использовании бахтинской терминологии (хронотоп, дуалистическая концепция авторства), приводящая подчас к надуманным попыткам поставить Бахтина в ряд «предшественников постмодернизма». Установлена преемственность французского философа Поля Рикера (основоположника философской, герменевтической нарратологии) по отношению к Бахтину. Указаны причины неожиданной популярности Бахтина на Западе в 1960-1970-е гг. (интерес к авангарду и формализму 1920-х гг., переосмысление творчества Достоевского, возникновение теории неофициальной культуры и ее модификаций). Выявлена центральная позиция концепта события в незавершенной философской системе Бахтина, дана имманентная атрибуция этого концепта, установлено его основополагающее значение для остальных терминов философа (диалог, карнавал, хронотоп). Утверждается приоритетный интерес Бахтина к событийности «эстетики словесного творчества» и значение идей философа для преодоления нарратологией структуралистского догматизма и ее интеграции с различными, первоначально отвергнутыми, методами и течениями (психологизм, историзм, философская герменевтика).
Бахтин, нарратология, событие, рикер, полифония, дуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145983
IDR: 149145983 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-20
Текст научной статьи Бахтинская концепция события и ее влияние на современную нарратологию
Bakhtin; narratology; event; Ricouer; polyphony; dualism.
Влияние комплекса философско-филологических идей Михаила Бахтина на современную поэтику (как теоретическую, так и историческую) невозможно переоценить. Лексикон русского мыслителя (полифонизм, Другой, карнавализация, хронотоп) широко эксплуатируется в научных трудах по литературоведению, в учебниках (университетских и даже школьных) по литературе. Переход от модного увлечения трудами «неофициального» гуманитария к подлинно научной рефлексии и рецепции его идей, историко-эпистемологической, филологической и филолософ-ской, – результат многолетних трудов множества выдающихся литературоведов, лингвистов, культурологов (С.С. Аверинцев, В.М. Алпатов, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа и другие), благодаря которым Бахтин обрел синхронный культурно-исторический контекст (который подменяется невнятными ассоциативными рядами то ли с русской религиозной мыслью, то ли с «предтечами» постмодернизма) в отечественной и зарубежной философии и гуманитарной мысли, а также были выявлены наиболее важные референции, подчас зашифрованные в текстах Бахтина (М. Шелер,
А. Мейер), термины обрели этимологию и более ясную семантику (которую крайне сложно извлечь из аутентичных текстов самого мыслителя, чуждых какого-либо логицизма и физикализма). Отдельно стоит отметить неоценимый вклад текстологов-комментаторов Собрания сочинений Бахтина в 7 томах (С.Г. Бочаров, В.В. Кожинов, В.Л. Махлин, И.Л. Попова, Л.А. Гоготишвили и др.), которые смогли преодолеть герметизм и дискретность рукописного наследия мыслителя и прояснить проблемы канонических редакций, фактической атрибуции и границ между манускриптом, философским дневником и напечатанной книгой (пресловутый «бахтинский вопрос»).
Почти все значимые идеи Бахтина из разных сфер его духовной деятельности – «первая философия» (онтологизированная и диалогизиро-ванная этика), металигвистика (философия языка, основанная на теории коммуникации), эстетика словесного творчества, методология и специализация гуманитарного знания, историческая поэтика – имели больший прецедент (хоть и отложенный на 30–40 лет) во многих разделах наук о культуре и обществе. Стоит отметить, разработку общих идей в «круге Бахтина» (1920-е), тот философский симпозиум, в котором происходила конкретизация и историзация таких проблем, как имманентность / детерминированность и неимперативная диалектика феноменов культуры, а также онтологизация языковых феноменов. Столь же значимой является заслуга литературоведов-шестидесятников (уже упомянутые Кожинов и Бочаров, Г.Д. Гачев, В.Н. Турбин, П.А. Палиевский, В.Д. Сквозников), которым принадлежит огромная заслуга в открытии и популяризации идей Бахтина, а также в возрождении эстетической проблематики в отечественной филологии.
Стоит отметить, особую роль бахтинского наследия (раннего и позднего, филологического и философского, атрибутированного и «девтерокано-нического»; при всей условности этой номенклатуры) в формировании современной постструктуралистской (не ограниченной одним некогда модным течением) нарратологии, Конечно же, нужно вспомнить бахтинскую концепцию эстетического субъекта (дуалистического автора-повествователя как рассказывающего субъекта-созерцателя и временно-пространственно-онтологические границы героя), теорию первичных, речевых жанров (в аспекте генезиса и дифференциации элементарных протоформ нарратива), но самым важным, по нашему мнению, является бахтинская теория события-поступка, которая, хоть дошла до читателя в незавершенном и фрагментарном виде и спустя десятки лет после своего возникновения, но вполне серьезно может претендовать на раскрытие центрального объекта нарратологии как метанаучной и интермедиальной дисциплины.
Эта наука давно не является и строго филологической, основывается она на интенциях создания универсальной для любого текста «грамматики повествования», но и в своем объекте, и даже в своей методологии она давно вышла за рамки наук о языке и литературе, как они были разграничены в дескриптивном и аналитическом гуманитарном знании первой половины XX в. Она уже давно переросла рамки догматического «научно- го» направления в литературоведении, в которые она была загнана своими основоположниками, структуралистами-неопозитивистами, в 1960-е гг. и фактически стала интегральной дисциплиной, внутри которой представлен весь спектр постклассической философии и общественной мысли.
Современная нарратология – синтетическая и антропоцентрическая наука, которая стремится охватить любую событийность в ее темпораль-ности (временной протяженности) и сингулярности (одновременности), презентативности (не обязательно вербальной) и апперцептивности (психофизиологической, социально-исторической и культурно-семиотической опосредованности ретрансляции события и его интеграции в когерентный человеческий опыт). Фактически, нарратология встала в ряд метагуманитарных дисциплин, стремящихся интегрировать весь органон наук о человеке, таких как психология и социология в XIX в., и семиотика и антропология в XX в.
Нарратология имеет двойственную (эксплицитную и имплицитную) генеалогию. Первая, официальная, восходит к австро-немецкому эстетическому формализму (который впервые сделал конструктивную и рецептивную установку главной проблемой искусствознания), русскому поэтологическому формализму (который многое сделал для научного исследования интриги, направленной на читателя сюжетной занимательности и приемов как способов привлечения его внимания) и англо-американской новой критике (которая сделала проблему точки зрения центральной в литературоведческом анализе).
Однако, безусловно, направления, повлиявшие на науку о повествовании, этим рядом не исчерпываются. Следует так же упомянуть неокантианство (с его историзацией, семиотизацией и социологизацией трансцендентального субъекта Канта; на это указывала одна из основоположников нарратологии – К. Фридеманн), многочисленные психологистические течения и школы, вроде эмпириокритицизма или прагматизма (которые декларировали когерентность психофизиологических категорий классической философии, в первую очередь, опыта, чувства времени и пространства, апперцепции и интенциональности), и феноменологию (которая сделала событие центральной онтологической категорией новой динамической и становящейся картины мира, сознательно противопоставленной стационарному бытию классической спекулятивной метафизики).
Кроме новейших течений постклассической философии следует упомянуть теорию языка школы эстетической лингистики Шпитцера и будущих основоположников когнитивной лингвистики и теории коммуникации, вроде Дж. Остина, а также новаторскую методологию истории школы «Анналов» и методологию постклассической релятивистской физики с ее центральной проблемой наблюдателя-субъекта научного эксперимента (Шредингер, Бор, Пригожин, фон Вайцзеккер) и теория кино советских режиссеров-авангардистов (Кулешов, Эйзенштейн), идеи которых были усвоены опосредованно через критику «Кайе дю синема» (Годар, Трюффо, Базен, Ромер).
Безусловно, среди непосредственных предшественников нарратологии следует отметить антропологов-структуралистов Ж. Дюмезиля и К. Леви-Стросса, которые с опорой на В. Проппа (которого по недоразумению на Западе долгое время относили к формалистам) пытались выявить универсальные мотивы-функции в сюжетных мифах народов разных частей света. Стоит отменить, что у самого Проппа [Пропп 2001] эта безудержная экстраполяция вызывала резкое неприятие, доходившее до обвинений в антинаучности своих неожиданных последователей. А также стоит упомянуть основоположника структурного психоанализа Ж. Лакана, исследовавшего сюжетность бреда, маний, галлюцинаций и сексуальных фантазий, и опиравшегося, в свою очередь, на Фрейда и его ортодоксальных учеников, вроде О. Ранка, интерес которых к литературе и мифологии общеизвестен.
Благодаря публикации рабочих записей Бахтина 1960–1970-х сейчас известно [Бахтин 2002], что он был знаком с программными публикациями западных и отечественных нарратологов (Ж. Женетт, В. Шмид, Б.А. Успенский). Всю жизнь он внимательно следил за всеми интеллектуальными новинками. Безусловно, путь развития нарратологии в последней трети XX в., ее интерес к истории и философии был бы очень симпатичен Бахтину, чего нельзя сказать о ее раннем – структуралистском – этапе. Хотя, конечно же, доподлинно критическая рефлексия мыслителя о пионерских трудах по нарратологии нам неизвестна (в записях содержится лишь скупая библиография), однако благодаря контексту (в целом негативные замечания о структуралистской методологии филологического знания и размышления о влиянии феноменологии на релятивистскую физику) мы можем утверждать неприятие Бахтиным ранней догматической нарратологии с ее имперсональным и этически-индифферентным подходом к повествовательным текстам.
Не менее сложным вопросом является причина неподдельного интереса французских филологов (семиологов и нарратологов, структуралистов и постструктуралистов, вроде Ц. Тодорова или Ю. Кристевой) к трудам Бахтина. В те годы (1960-е) была широкая волна увлечения русской культурой на Западе, в особенности авангардом 1920-х (как ОПОЯза, так и Пражского лингвистического кружка и новаторских публикаций по теории кино Кулешова и Эйзенштейна), и Бахтин (опосредованно, отнесенный к «постформалистам» и даже неомарксистам) также попал в эту волну. Кроме того, очевидно, что к трудам русского литературоведа французские гуманитарии пришли через характерное для западной постклассической персоналистской философии увлечение Достоевским, который был альтернативой и дискредитировавшей себя систематической спекулятивной метафизике, и нигилистической «внесистемной» дилетантской эссеистике – достаточно упомянуть интерес к Достоевскому французских экзистенциалистов, вроде Г. Марселя, Ж.-П. Сартра или А. Камю. Стоит отметить также значение книги о Рабле в формировании современной теории неофициальной культуры, которая опосредованно повлияла на представителей неоавангарда, контркультуры и андерграунда (все эти течения типологически и генетически близки постструктурализму).
Безусловно, ведущая роль в творческом осмыслении, а не просто тиражировании идей Бахтина принадлежит П. Рикеру – крупнейшему представителю послевоенной феноменологии и философской герменевтики. Бахтина он, кстати, именовал «гениальным критиком», «уроки» которого очень важны для современной эстетики [Рикер 1998, 101]. Вслед за М. Хайдеггером Рикер считал искусство «обнажением истины» [Хайдеггер 2008], которая наиболее приближает созерцателя к непосредственной (феноменальной) данности бытия, и именно он сыграл ведущую роль в онтологическом и антропологическом развороте, произошедшем в нарра-тологии в последнюю треть XX в.
Несмотря на то что Рикер не был знаком с ранними философскими незавершенными трудами Бахтина (по крайней мере в 1970-е – начале 1980-х, когда он работал над трактатом «Время и рассказ»), он проницательно указывает на то, что знаменитая «полифония» не только композиционная, но в первую очередь миметическая (тематическая, референтная) категория. Вот как французский мыслитель характеризует полифонический роман: он подобен сложному музыкальному произведению, вроде оратории и симфонии, объектом не изображения (презентации), а феноменологической аппрезентации является само время, становящиеся зримым, «обретающее голос». Как это похоже на «Формы времени и хронотопа в романе», с которыми, вероятнее всего, Рикер еще не был знаком (по крайней мере, в указанной работе французского исследователя ссылки на работу Бахтина не содержатся). Примечательно, что для Рикера важнейшими являются временные коннотации категорий голоса / полифонии, да и повествования в целом, и это позволяет установить преемственность между субъективацией категории времени в постклассической философии и пробуждением интереса к нарративу как сукцессонально организованным выражением эмпирического или фикционального события, а также возрождением историзма, в 1960-е гг.
Так же Рикеру был близок интегральный подход Бахтина к словесности, стремление к созданию металингвистики не на основе рационализированных грамматических универсалий, а на выявлении инвариативности ситуации Диалога, уравнивающей в правах рассказчика и слушателя и делающей предметом речи все бытие во фрагменте конкретной дискурса. Рикер отмечает отсутствие строгой дифференциации между сюжетом и повествованием как объектной и субъектной сторонами художественного текста, а также критически относится к абсолютизации интриги (занимательности) в литературоведении, которая зациклена на рецепции шаблонных сюжетных схем, а не на эстетических категориях. Однако интрига как трансгредиентная категория художественного высказывания и читательского сознания также очень важна, без нее практически невозможна эстетическая коммуникация.
Рикер разделял идею Бахтина о невозможности нейтрального повествования, лишенного этических и социальных оценок, которые русский философ высказывал еще в своих рукописных философских трудах, вроде «<К философии поступка>», где он, правда, говорил о интенционально- сти созерцателя-субъекта события. Эта позиция прямо противоположна учению о повествователе-рассказчике ранней нарратологии, которое отличается крайним антипсихологизмом и идеологической и аксиологической индифферентностью.
Общим местом в научной и учебной литературе нарратологической проблематики стало различение референтного и коммуникативного аспектов художественного высказывания, которое опирается непосредственно на феноменологическую онтологию события – центральный мотив всей философии Бахтина от ранней незавершенной «Философии поступка» до заключительных замечаний к статье о хронотопе, дописанных в начале 1970-х гг. Двойственность все сущего наиболее приближена «эпохэ», непосредственному восприятию жизни-существования-бытия-события, лишенного умозрительных и навязанных мировоззрений и идеологий:
«Перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как произведение в его событийной полноте, включая сюда и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца, и слушателя-читателя. При этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» [Бахтин 2012, 500–501].
Широко известные слова Бахтина о «рассказанном событии и событии самого рассказывания» благодаря парадоксам развития общественной мысли стали восприниматься чуть ли не подтверждением другой, прямо противоположной, структуралистской и постструктуралистской теории наррации, представители которой (А.-Ж. Греймас, Ж. Женетт, Ц. Тодоров, Ж.-Ф. Лиотар) также акцентировали двойственную сущность любой повествовательной ситуации; однако эта двойственность носила не референтный и дискурсивный характер, она была скорее эмпириокритической и семиологической и выражала непреодолимую раздвоенность между хаотической, бесцельной и бессмысленной, «дурной» событийностью жизни и потребностью человека в историзации, каузальной и этиологической организации этой «пены дней» [Лиотар 1998]. В.И. Тюпа замечает, что в своем дуалистическом подходе французские структуралисты опирались на формалистов, главных оппонентов Бахтина, которые сырому и произвольному, в сущности, ничего не значащему, материалу противопоставляли организованную и структурированную форму (касаемо нашей проблемы это общеизвестная дихотомия «фабулы» как импульса художественного высказывания и «сюжета» как сукцессионально организованной системы приемов) [Тюпа 2021a]. Дуализм – архетипическое свойство человеческого сознания, однако модусы этого дуализма могут быть совсем разными даже в текстах, близких по времени, эпохе и даже языку (не раз отмечавшаяся стилистическая схожесть Бахтина и Деррида, который, в свою очередь, подражал Хайдеггеру) [Махлин 2018].
В трудах Бахтина мы не найден специализированной нарратологиче-ской номенклатуры, однако повествование как структурированное, адресованное и интенциональное высказывание о мире – одна из главных проблем бахтинской философии. Именно отталкиваясь от проблемы событийности Бахтин пришел и к проблеме вербальной презентации (собственно нарративная теория полифонии) и сюжетологическим и топологическим проблемам хронотопа и карнавала. Бахтинская концепция поступка-события противопоставлена (имплицитно) всех магистральным течениям тогдашней философии и гуманитарного знания, которые, декларируя отказ от субстанционализма спекулятивной философии, просто ставили в центр мироздания различные гипостазированные детерминанты (сексуальное влечение, как фрейдизм, экономический интерес, как марксизм, законы семиозиса, как структурализм).
Интерес к повествованию пробудился у Бахтина еще на раннем этапе формирования его «первой философии». Известно о наличии утерянной первой редакции книги о Достоевском, написанной приблизительно на рубеже 1910–1920-х гг. (была ли эта редакция или нет, доподлинно неизвестно, но сам замысел более чем знаменателен). Проблема времени / событийности – центральная для всей постклассической философии (от неопозитивизма Г. Райхенбаха до неотомизма Э. Жильсона), однако Бахтин акцентировал именно эстетический аспект поступка-события, как наиболее релевантный непосредственному восприятия феномена существования, и наиболее эстетичным родом искусства для Бахтина по глубине «обнажения истины» (как и для Хайдеггера) была поэзия, художественная словесность.
Событие-поступок – центральная категория незавершенной онтологии Бахтина, она фундирует все остальные термины, которые с 1960х стали связаны с именем философа, и карнавализацию как вечное становление исторического человечества, и хронотоп как интенсификацию пространственно-временной эпистемы, и дуалистическую концепцию авторства, которая сама становится событием, и металингвистика, онтологизирующая ситуацию обыденного речевого общения и вскрывающая диалогическую природу любого текста. Как пишет Т.В. Щитцова, «наряду с исключительной смысловой разветвленностью, а также сложными модификациями понятия события, трудно отрицать принципиальную опознаваемость самого концепта, пронизывающего единой связью весьма многогранное наследие Бахтина даже, казалось бы, в самых узкоспециальных вопросах». [Щитцова 2002, 18–19]
Много раз Бахтин повторял, что «событийность – историчность», и она свойственна подлинному бытию, пронизанному человеческой интенциональностью. Претендующие на вневременность и неизменность модели мира – умозрительные и спекулятивные эпистемы, не позволяющие созерцателю достигнуть «эпохэ» – непосредственной феноменологии существования.
Любое событие – потенциальный рассказ, любой рассказ – обязательно событие. Событие не просто этически окрашено, оно структурировано этической позицией субъекта. Событие не абстрактная, трансцеденталь-ная структура апперцепции опыта, это феномен формирования этого опыта, благодаря социальной природе человека способный к предельно широкой ретрансляции. Событийность, лишенная человеческой интенциональности, не способная к интеграции в экзистенциальный опыт и апперцепции, не являющаяся содержанием потенциального рассказа, не возможна, даже законы внешнего мира (физические и биологические), которые, на первый взгляд, противоположны любому антропоцентризму, невозможны вне субъективной позиции естествоиспытателя-наблюдателя, которая при всей своей объективности, детерминирована эпистемологической и идеологической средой.
Общим местом стало сравнение языка работ Бахтина 1920-х с языком философствования Хайдеггера [Гоготишвили 2006]: в действительности им обоим свойственна творческая этимология философской номенклатуры (собственно, «событие» как «со-бытие»), онтологизация обыденного языка, нарочитый герметизм.
Атрибуты нарративной ситуации-события по Бахтину дуалистичны, но они комплементарны, а не антитетичны. Какие именно атрибуты события, важные для нарратологической методологии, можно выявить из того фрагмента незавершенного трактата «<К философии поступка>»? Приведем довольно крупный фрагмент:
«Истинно реален, причастен единственному бытию-событию только этот акт в его целом, только он жив, полностью > и безысходно есть – становится, свершается, он действительный живой участник события-бытия; он приобщен единственному единству свершающегося бытия, но эта приобщенность не проникает в его содержательно-смысловую сторону, которая претендует самоопределиться сполна и окончательно в единстве той или другой смысловой области: науки, искусства, истории, а эти объективированные области, помимо приобщающего их акта, в своем смысле не реальны. <…> Этим единственным единством и может быть только единственное событие свершаемого бытия, все теоретическое и эстетическое должно быть определено – как момент его, конечно, уже не в теоретических и эстетических терминах. Акт должен обрести единый план, чтобы рефлектировать себя в обе стороны: в своем смысле и в своем бытии, обрести единство двусторонней ответственности: и за свое содержание (специальная ответственность) и за свое бытие (нравственная), причем специальная ответственность должна быть приобщенным моментом единой и единственной нравственной ответственности» [Бахтин 2003, 7–8].
Теперь попытаемся объективировать их и описать на языке современного гуманитарного знания:
Интенциональность. Однако эта интенциональность носит не умозрительный, психологический или логический, характер, она детеминирована идеологической средой, социально-исторической и языковой констелляцией человеческого сознания, делающей любую его интенцию аксиологически и этически окрашенной.
Уникальность. Событие всегда единственное и неповторимое, даже при схожих детерминантах результанта не может быть одинаковой.
Интерсубъективность. Событие невозможно в абстрактном изолированно сознании, а лишь в общественном взаимодействии, в диалоге как его наиболее адекватной форме, и в рассказе-повествовании как наиболее значимом варианте этого диалога.
Фрактальность (по определению В.И. Тюпы). Событие «единое и единственное» одновременно, оно и преемственное и поступательное развитие всего сущего, и отдельный эпизод этого развития.
Трансгредиентность. Событие – результат размыкание традиционных семантических рядов и их нового, подчас парадоксального сближения.
Нарратология отошла от радикализма постструктуралистов, которые фактически отрицали и наличие объекта, и адекватную методологию у всего органона гуманитарных наук, но при этом она пытается сохранить монистический подход и выявить повествовательные структуры, основанные на событийности и дискурсивности, во всех сферах культуры и общественной жизни, активно привлекая смежные дисциплины от лингвистики до историографии. За полвека развития она прошла огромный путь и смогла интегрировать в свою научную парадигму течения и методы, которые ранее отрицала (историзм, психологизм, философская герменевтика).
Безусловно, бахтинская трактовка поступка-события, прямо или опосредованно, сыграла ведущую роль в возрождении историзма и исторической поэтики во второй половине XX в., и историзации новейших гуманитарных дисциплин, в том числе и нарратологии. Историческая наррато-логия – активно развивающаяся область знания, уже имеющая несколько школ и значительные академические достижения. Актуализация наследия Бахтина позволила преодолеть недостатки современного гуманитарного знания и сделать нарратологию синтетической и антропоцентрической дисциплиной, позволила преодолеть индифферентность к и этике, которая еще несколько десятилетий назад была в социальных науках неоспоримой.
Список литературы Бахтинская концепция события и ее влияние на современную нарратологию
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари. Языки славянских культур, 1997-2012.
- Гоготишвили Л.А. Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией (мягкая и жесткая версии интерпретации идей М.М. Бахтина) // Непрямое говорение. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 143-189.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 161 с.
- Махлин В.Л. "Участное мышление": Философский проект М.М. Бахтина в контексте онтологического поворота XX в. // Историко-философский ежегодник. 2018. Т. 33. С. 267-292. EDN: SLQLFN
- Пропп В.В. Структурное и историческое изучение волшебной сказки (ответ К. Леви-Строссу) // Семиотика. Антология. М.: Академический проект, Деловая книга, 2001. С. 453-473.
- Рикер П. Время и рассказ: в 2 т. М., СПб.: Университетская книга, 1998-2000.
- Тюпа В.И. Бахтин и нарратология // Литературоведческий журнал. 2021. № 4(54). С. 120-133. EDN: BNIIDD
- Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008. 526 с. EDN: QWTDYP
- Щитцова Т.В. Событие в философии Бахтина. Минск: ИП Логвинов, 2002. 298 с.