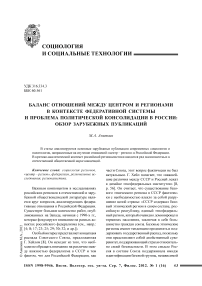Баланс отношений между центром и регионами в контексте федеративной системы и проблема политической консолидации в России: обзор зарубежных публикаций
Автор: Анипкин Михаил Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные зарубежные публикации современных социологов и политологов, направленные на изучение отношений «центр - регион» в Российской Федерации. В критико-аналитический контекст российской регионалистики вводится ряд малоизвестных в отечественной общественной науке концепций.
Социология регионов, "центр - регион", федерализм, региональные исследования, регионалистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14974495
IDR: 14974495 | УДК: 316.334.3
Текст научной статьи Баланс отношений между центром и регионами в контексте федеративной системы и проблема политической консолидации в России: обзор зарубежных публикаций
Важным компонентом в исследованиях российских регионов в отечественной и зарубежной обществоведческой литературе является круг вопросов, анализирующих федеративные отношения в Российской Федерации. Существует большое количество работ, опубликованных на Западе, начиная с 1990-х гг., которые фокусируют внимание на разных аспектах российского федерализма (см., напр.: [4; 8; 17; 23; 25; 29; 30; 32; и др.]).
Особый интерес представляет концепция распада Советского Союза, предложенная Г. Хейлом [8]. Он исходит из того, что необходимо обращать внимание на различие между важностью федерализма в СССР и тем фактом, что для Российской Федерации, как части Союза, этот вопрос фактически не был актуальным. Г. Хейл полагает, что «важнейшие различия между СССР и Россией лежат в дизайне этнофедеральных институтов» [8, p. 56]. Он считает, что существование базового этнического региона в СССР фактически с необходимостью влекло за собой разрушение целой страны: «СССР содержал базовый этнический регион в своем составе, российскую республику, единый этнофедераль-ный регион, который очевидно доминировал в терминах населения, заключая в себе большинство граждан союза. Базовые этнические регионы имеют тенденцию продвигать и поддерживать государственный распад, поскольку они представляют собой двойственный суверенитет, поддерживающий страхи относительно своей безопасности. В этом смысле Россия в составе Союза поддерживала имидж идентификации базовой группы, независимой от Федерации... В России, с другой стороны, нет базового этнического региона» [8, p. 56], то есть опасность распада невелика. Это интересное наблюдение по российскому федерализму, но его слабость, на наш взгляд, состоит в чрезмерном фокусировании внимания на этническом аспекте. Этничность не всегда является релевантным аспектом для анализа в ситуации исследования федеративных отношений. Тем не менее весьма правильным представляется его упор на проблематике федерализма в целом.
Другими исследованиями, напрямую относящимися к проблемам федерализма в России, являются те, что осуществлены известным британским специалистом по современным социально-политическим процессам в России К. Россом [23; 25; 26]. Он анализирует многообразие аспектов российского федерализма, включающее проблемы сепаратизма, региональных избирательных кампаний, партийных систем и корпоративность региональных элит. Отвечая на вопрос о том, как соотносятся друг с другом федерализм и демократизация, он пишет, что не правы те, кто исходит из того, что федерализм и демократизация являются двумя сторонами одной медали, поскольку пример России, с его точки зрения, является исключением: «Такие теории подходят для либеральных демократий, что касается России, то можно сказать, что взаимоотношение между федерализмом и демократизацией было полностью негативным. Россия придумала уникальный бренд, называющийся “асимметричный федерализм”, что весьма далеко от развития демократии, но вместе с тем способствует авторитарным режимам в регионах. Высокий уровень региональной автономии более часто приводит регионы в направление диктатуры, нежели демократии... Можно заключить, что федерализм и демократия в России существуют в противоречии, нежели чем в гармонии» [26, p. 417–418].
В своем плодотворном анализе природы российского асимметричного федерализма [23] ученый исходит из того, что федерализм представляет собой более усложненный феномен, нежели просто свободу от центрального правительства. Настоящий федерализм предполагает демократию, но вся проблема применительно к России заключается в том, что в Российской Федерации не было реального федерализма до сих пор. Отношения между центром и регионами по-прежнему далеки от аутентичного федерализма. Несмотря на то, что федерализм заложен в Конституции России, практика всегда была другой. К. Росс обращает внимание на теоретические и методологические сложности, с которыми сталкивается исследователь при изучении социально-политических процессов в российских регионах.
К. Росс также являлся редактором сборника статей [23], в котором анализировались различные аспекты политического процесса в регионах России. Эта книга стала удачным примером обобщения сложных политических тенденций по всему спектру российских регионов на основе существующих теоретических схем. В своей статье К. Росс, в частности, анализирует специфические особенности институциализации партийной системы в Российской Федерации [ibid.]. По нашему мнению, он сделал несколько чрезвычайно важных выводов, с которыми мы полностью согласны. Совершенно справедливо считать, что граждане России скорее не доверяют политическим институтам и партиям России и более «склонны концентрироваться вокруг личности, нежели определенных политических направлений» [ibid., p. 43–44]. Это иллюстрирует важность персонализированной политики в России. Работы К. Росса помогают операци-онализировать ряд категорий, относящихся к проблематике системной интеграции отношений власти.
Другой важной работой, посвященной российским регионам, является сборник трудов под редакцией П. Ставракиса [1], вышедший сразу после президентской избирательной кампании в России 1996 года. Огромное количество материала было проанализировано по различным феноменам регионализма в России в историческом, политическом, социально-экономическом и этноматериальном аспектах. Сам редактор П. Ставракис справедливо отмечает, что только сравнительно недавно западные ученые стали проявлять интерес к региональным проблемам в России. По его мнению, важность изучения российских региональных вопросов очевидна: «Ника- кой результат выборов не в состоянии изменить тот факт, что современный регионализм навсегда изменил развитие российского общества и политики. В равной степени, каким бы ни было российское государство сейчас, федеративным или унитарным, демократическим или авторитарным, оно не сможет избежать столкновения с проблемой региональных отношений» [1, p. 5].
Следующая книга представляет собой хорошее продолжение и является логичным ответом на призыв П. Ставракиса. Речь идет о фундаментальной работе «Республики и регионы Российской Федерации: справочник по политике и лидерам» [33]. Этот труд является систематическим справочником, описывающим основные статистические аспекты всех российских регионов объективно и беспристрастно. Он содержит информацию по базовым статистическим параметрам, взятым из результатов переписи 1989 г., краткое описание каждого региона, статистику по последним избирательным кампаниям и по текущей политической ситуации вместе с описанием групп влияния и биографий губернаторов. Каждая статья в этом справочнике была написана авторитетным ученым из соответствующего региона.
П. Кирков в своей книге «Российские регионы» [14] также использует этот подход и таким образом показывает один из лучших примеров социологического изучения российских региональных проблем. Его кейс-стади также включает в себя анализ вторичных данных. Центральным вопросом его работы является анализ специфических черт пространственного контекста посткоммунистической трансформации, как он пишет об этом: «посткоммунистическая трансформация в ее пространственном контексте должна была осуществляться сверху, либо существует потенциальная возможность для автономии региональных элит с тем, чтобы производить институциональную реструктуризацию и экономическую адаптацию» [ibid., p. 11]. П. Кирков сравнивает институты в двух российских регионах: в Алтайском и Приморском краях. Им был рассмотрен огромный круг проблем, начиная от истории региональной политики в СССР и заканчивая анализом региональных элит. Автор делает вывод о том, что двуху- ровневая модель трансформации сверху против региональной автономии, которая была в центре академического изучения в начале процесса трансформации, должна быть пересмотрена в направлении дальнейшей региональной дифференциации и общей плюрализации российского общества. Несмотря на то, что книга вышла в 1998 г., автор использует главным образом материал начала 1990-х годов. Это предполагало акцент на характеристиках, которые больше не существуют в настоящее время. Например, это касается трех важных выводов относительно различных реализаций политики федерального центра по отношению к российским регионам: а) различия между автономными республиками и стандартными областями; б) различная реализация политики, применяющейся к богатым ресурсами регионам и более бедным областям; в) географическое место расположения является важным фактором взаимоотношения между центром и регионами.
Следует отметить, что два последних вывода по-прежнему являются актуальными в современной России, в то время как первая идея формально полностью отвергнута, поскольку не сочетается с духом федерализма. Это привело к тому, что новая Конституция 1993 г. не содержит нормы, закрепляющие дисбаланс республик и областей. Вместе с тем книга П. Киркова представляет собой хороший пример продуманного кейс-стади.
Проблема политической консолидации тесно связана с общим анализом взаимоотношений «центр – регион» в российском политическом поле. В частности, речь идет о книгах таких авторов, как Д. Тризман и В.И. Шляпен-тох [28; 34], в которых анализировалась история и современная ситуация так называемой политической консолидации в рамках взаимоотношений между центром и регионами. Указанные авторы главным образом использовали исторический подход к анализу динамики отношений «центр – регион». В этом контексте стоит упомянуть работу под редакцией Дж. Хана, посвященную Ярославской области [24], а также ряд других работ, анализирующих социальную и политическую жизнь конкретных регионов [3; 10; 11; 15; 16; 18; 31; и др.]. Все эти авторы обратились к исследованию конкретных российских регионов, что демонстрирует рас- тущий интерес на Западе к российской региональной проблематике в целом.
В частности, статья Д. Хатчесона [11] посвящена изучению случая избирательной кампании в Государственную думу в Ульяновской области. Автор подробно рассматривает специфику регионального голосования, полагая, что местные избирательные кампании того времени существенно отличались от тех, что проводились на федеральном уровне. Д. Хатчесон предлагает теоретическую схему обобщенного анализа социально-политических процессов в отдельно взятом регионе с точки зрения политической консолидации.
В его следующей работе «Политические партии в российских регионах» [12] дается более детальный анализ трех уровней институционализации политических партий в России (федерального, регионального и местного), используются примеры соответствующих регионов. В этом фундаментальном труде автор рисует весьма сложную картину партийного строительства в России. Очевидно, что все упомянутые здесь работы посвящены анализу различных аспектов политической региональной консолидации, что существенно помогло нам сформулировать соответствующие вопросы в эмпирической части нашего исследования.
В ряду работ по российской регионалис-тике важное место занимают труды, посвященные изучению понятия «укрепление вертикали власти» в региональном преломлении [2; 5; 6; 19; 21; 23; 27].
Категория «вертикаль власти» связана с анализом давления центрального правительства на российские регионы, что представляет собой важную проблему для эмпирического анализа. После того, как новым президентом стал В.В. Путин в 2000 г., появилась масса публикаций, анализирующих его инициативы, устремленные на укрепление центральной политической власти. Путин назвал этот процесс «восстановлением властной вертикали». Очевидно, что «вертикаль власти» в понимании президента означала такую структуру центральной власти, которая бы полностью контролировала региональные и местные органы власти и влияла на них. Иными словами, восстановление властной вертикали – это политика, которая направлена на создание цен- тральной власти, достаточно сильной для того, чтобы конституциональное федеративное государство трансформировать, с точки зрения управления, в государство унитарное. Для достижения указанной цели были предприняты два шага. Во-первых, созданы семь федеральных округов (сейчас их уже восемь), напрямую управляемых из центра, а во-вторых, отменены прямые выборы глав российских регионов. Кроме того, важно упомянуть еще один шаг, который косвенно усилил центральную власть, – изменение Закона о выборах в Государственную думу в 2007 году. В соответствии с этим новым законом вся Государственная дума избирается на основе пропорционального представительства (система партийных списков), в то время как до 2007 г. Дума избиралась по двум системам одновременно: половина по одномандатным округам и половина по списку. Нынешняя пропорциональная система выборов отличается тем, что кандидатов проще контролировать из федерального центра, поскольку партийные списки кандидатов формируются в партийных штабах, располагающихся в Москве. В то же самое время принцип одномандатных округов позволял одерживать победы на выборах кандидатам, не контролируемым из центра.
Более того, региональные власти со всей очевидностью после принятия этого закона уменьшили контроль над формированием списка кандидатов, что опять же усиливает центральную власть. Иными словами, «вертикаль власти» обозначает целый спектр действий, позволяющих центру влиять на политические процессы в регионах. Все это получило отражение в соответствующих научных публикациях как в России, так и за рубежом.
Уже упоминавшийся американский исследователь Дж. Мозес опубликовал ряд статей, посвященных не только Волгограду, но и Калининграду, Перми, Новосибирску и некоторым другим регионам [19; 20]. В своих работах он анализировал региональные и политические процессы в ситуации новой политической повестки дня, предложенной Путиным.
Дж. Мозес сделал ряд важных наблюдений на основе анализа результатов региональных избирательных кампаний. В частности, он пишет: «Политическое противоборство приобретает форму большего плюрализма элиты, чем никак не ограниченный демократический плюрализм гражданских обществ, что характеризует западную демократическую модель. Нынешний электоральный процесс в российских регионах <...> всего лишь увеличивает общественный цинизм, разочарование и презрение со стороны всех избираемых официальных лиц» [19, p. 926]. В другой своей статье Дж. Мозес пытается понять будущее развитие политики в российских регионах, делая вывод, что «влиятельные представители исполнительной власти и слабые законодательные органы станут еще более очевидным явлением на территории России» [20, p. 1073].
Реформа «вертикали власти» и ее последствия как для федеральных, так и региональных властей получили достаточно пристальное рассмотрение в работах исследователей [2; 5; 6; 7; 9; 13; 22; 23; 27; и др.].
В частности, М. Хайд [13] описывает в деталях создание федеральных округов и реформирование Совета Федерации, изучает усиление президентской власти и роль формальных институтов в Российской Федерации. М. Хайд пишет, в частности, что в ситуации отсутствия эффективных институциональных реформ В.В. Путин будет продолжать использовать своего рода неформальные, краткосрочные механизмы, уже использованные Б.Н. Ельциным в прошлом, в частности дополнительные договоры с индивидуальными региональными лидерами, либо оказание влияния на региональные выборы для продвижения соответствующих кандидатов» [ibid., p. 738]. На наш взгляд, это весьма точно «схваченная» идея, с которой следует согласиться, что свидетельствует о недостатке системной интеграции в современной Российской Федерации в политической и социальной сферах. Несмотря на то, что Путин пытался развивать институциональные механизмы в период своего президентства, проблема до сих пор остается острой.
Л. Нельсон и У. Кузес [21] произвели дальнейший анализ процесса создания федеральных округов, используя пример четырех регионов: Воронежской, Свердловской, Смоленской областей и Татарстана. Авторы обращают внимание на различные проблемы в этих регионах, которые являются прямыми ре- зультатами президентских инициатив. В частности, речь идет о трениях, возникающих между региональными лидерами и представителями президента в федеральных округах, что стало очевидным практически во всех субъектах Российской Федерации.
В сравнительно недавней публикации М. Хашима [9] также уделено большое внимание тем шагам путинских реформ, которые укрепляют унитарное государство: «До сих пор путинские попытки рецентрализации усиливали принудительные рычаги по отношению к регионам, представительной власти, олигархам и гражданам... Имея в виду конституционный дизайн в России и слабость гражданского общества, Путин не столкнется с серьезными институциональными или социеталь-ными вызовами, если он захочет быть еще более авторитарным» [ibid., p. 46]. Представляется, что это достаточно важный пассаж, который, на наш взгляд, разделяет большинство обществоведов в современной России.
Как можно увидеть из примеров, приведенных выше, западные ученые анализируют все аспекты реформ В.В. Путина, включая самые противоречивые, как, например, создание федеральных округов и отмену прямых выборов региональных губернаторов. Последняя реформа, на наш взгляд, только усложняет уже существующие проблемы во взаимоотношениях между регионами и федеральным центром. Именно поэтому последние инициативы руководства страны ориентированы на возвращение прямых выборов глав субъектов Федерации. В подобной ситуации региональные проблемы становятся чрезвычайно интересным и важным объектом для изучения со стороны социологов.
Таким образом, существует множество публикаций, которые не только описывают процессы в российских регионах, но также обобщают соответствующие социально-экономические или политические категории.
Список литературы Баланс отношений между центром и регионами в контексте федеративной системы и проблема политической консолидации в России: обзор зарубежных публикаций
- Beyond the monolith: the emergence of regionalism in Post-Soviet Russia/еd. by P. Stavrakis. -Washington: The Woodrow Wilson Centre Press, 1997. -259 p.
- Crosston, M. Shadow Separatism: Implications for Democr atic Con solidation/M. Crosston. -Aldershot: Ashgate, 2004. -152 p.
- Drobizheva, L. A Comparison of Elite Groups in Tatarstan, Sakha, and Orenburg/L. Drobizheva//Post-Soviet Affairs. -1999. -Vol. 15, Iss. 4. -P. 387-406.
- Dusseault, D. The Significance of Economy in the Russian Bi-lateral Treaty Process/D. Dusseault, M. Hansen, S. Mikhailov//Communist and Post-Communist Studies. -2005. -Vol. 38. -P. 121-130.
- Dynamics of Russian Politics: Putin's Reform of Federal-Regional Relations. Vol. 1/еd. by R. Orttung, P. Reddaway. -Lanham: Rowman & Littlefield Publ., Inc., 2004. -332 p.
- Golosov, G. Political Parties in the Regions of Russia: Democracy Unclaimed/G. Golosov. -Boulder; L.: Lynne Rienner Publ., 2004. -305 p.
- Hahn, G. Reforming the Federation/G. Hahn//Developments in Russian Politics/еd. by S. White, Z. Gitelman, R. Sakwa. -N. Y.: Palgrave Macmillan, 2005. -P. 148-167.
- Hale, H. The makeup and breakup of ethnofederal states: why Russia survives where USSR fell/Н. Hale//Perspectives on Politics. -2005. -March. -Vol. 3, № 1. -P. 55-70.
- Hashim, M. Putin's Etatization project and limits to democratic reforms in Russia/M. Hashim//Communist and Post-Communist Studies. -2005. -Vol. 38. -P. 25-48.
- Huйrou, A. Elites in Omsk/А. Huйrou//Post-Soviet Affairs. -1999. -Oct. -Dec. -Vol. 15, Iss. 4. -P. 362-386.
- Hutcheson, D. Campaigning in the Russian Regions: the case of Ul'yanovsk/D. Hutcheson//Journal of Communist Studies and Transition Politics. -2001. -June. -Vol. 17, № 2. -P. 70-93.
- Hutcheson, D. Political parties in the Russian Regions/D. Hutcheson. -L.; N. Y.: RoutledgeCurzon, 2003. -196 p.
- Hyde, M. Putin's Federal Reforms and their Implications for the Presidential power in Russia/М. Hyde//Europe-Asia Studies. -2001. -Vol. 53, № 5. -P. 719-743.
- Kirkow, P. Russia's provinces: authoritarian transformation versus local autonomy?/Р. Kirkow. -Birmingham: Univ. of Birmingham Press, 1998. -240 p.
- Kurilla, I. Civil Activism without NGOs: The Communist Party as a Civil Society Substitute/I. Kurilla//Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Demokratization. -2002. -Vol. 10., Iss. 3. -P. 392-400.
- Lallemand, J.-C. Politics from the few: elites in Bryansk and Smolensk/J.-C. Lallemand//Post-Soviet Affairs. -1999. -Oct. -Dec. -Vol. 15, Iss. 4. -P. 312-335.
- Litwak, J. Central Control of Regional Budgets: Theory with Application to Russia/J. Litwak//Journal of Comparative Economics. -2002. -Vol. 30, Iss. 1. -P. 51-75.
- Mendras, M. How regional elites preserve their power/М. Mendras//Post-Soviet Affairs. -1999. -Oct. -Dec. -Vol. 15, Iss. 4. -P. 295-311.
- Moses, J. Political-economic elites and Russian regional elections 1999-2000: democratic tendencies in Kaliningrad, Perm and Volgograd/J. Moses//Europe-Asia Studies. -2002. -Vol. 54, № 6. -P. 905-931.
- Moses, J. Voting, regional legislatures and electoral reform in Russia/J. Moses//Europe-Asia Studies. -2003. -Vol. 55, № 7. -P. 1049-1075.
- Nelson, L. Political and Economic Coordination in Russia's Federal District Reform: A Study of Four Regions/L. Nelson, Y. Kuzes//Europe-Asia Studies, 2003. -Vol. 55, № 4. -P. 507-520.
- Orttung, R. Putin's Federal Reform Package: A Recipe for Unchecked Kremlin Power/R. Orttung//Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. -2001. -Vol. 9, Iss. 3. -P. 341-349.
- Regional Politics in Russia/еd. by C. Ross. -Manchester; N. Y.: Manchester Univ. Press, 2002. -223 p.
- Regional Russia in Transition: Studies from Yaroslavl'/еd. by G. Hahn. -Washington (D. C.); Baltimore; L.: Woodrow Wilson Center Press: The John Hopkins Univ. Press, 2001. -258 p.
- Ross, C. Federalism and Democratisation in Russia/С. Ross. -Manchester: Manchester Univ. Press, 2002. -645 p.
- Ross, C. Federalism and Democratization in Russia/С. Ross//Communist and Post-Communist Studies. -2000. -Dec. -Vol. 33, Iss. 4. -P. 403-420.
- Russian Regions and Regionalism: Strength through weakness/еd. by G. Herd, А. Aldis. -L.; N. Y.: RoutledgeCurzon, 2003. -304 p.
- Shlapentokh, V. From submission to rebellion: the provinces versus the centre in Russia/V. Shlapentokh, R. Levita, М. Loiberg. -Boulder; Colo: Westview Press, 1997. -293 p.
- Sцderland, P. The Significance of Structural Power Resources in the Russian Bilateral Treaty Process 1994-1998/P. Sцderland//Communist and Post-Communist Studies. -2003. -Vol. 36, Iss. 3. -P. 311-324.
- Soviet federalism, nationalism, and economic decentralisation/еd. by A. McAuley. -Leicester; L.: Leicester Univ. Press, 1991. -214 p.
- Startsev, Y. Gubernatorial politics in Sverdlovsk Oblast'/Y. Startsev//Post-Soviet Affairs. -1999. -Oct. -Dec. -Vol. 15, Iss. 4. -P. 336-361.
- Stoliarov, M. Federalism and the dictatorship of power in Russia/М. Stoliarov. -L.: Routledge, 2003. -288 p.
- The republics and regions of the Russian Federation: a guide to politics, policies, and leaders/еd. by R. Ottung. -Armonk; N. Y.; L.: M.E. Sharpe, 2000. -679 p.
- Treisman, D. After the deluge: regional crises and political consolidation in Russia/D. Treisman. -Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press, 1999. -262 p.