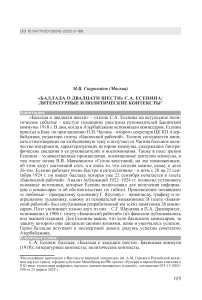«Баллада о двадцати шести» C.А. Есенина: литературные и политические контексты
Автор: М.В. Скороходов
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
«Баллада о двадцати шести» – отклик С.А. Есенина на актуальное политическое событие – шестую годовщину расстрела руководителей Бакинской коммуны 1918 г. В дни, когда в Азербайджане вспоминали комиссаров, Есенин приехал в Баку по приглашению П.И. Чагина – второго секретаря ЦК КП Азербайджана, редактора газеты «Бакинский рабочий». Есенин соглашается написать стихотворение на злободневную тему и получает от Чагина большое количество материалов, характеризующих историю коммуны, содержащих биографические сведения о ее руководителях и воспоминания. Также в поле зрения Есенина – художественные произведения, посвященные деятелям коммуны, в том числе поэма В.В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным, об этом дадут настоящий стих, а я лишь то, что сегодня можно, скажу о деле 26-ти». Есенин работает очень быстро и результативно – в ночь с 20 на 21 сентября 1924 г. он пишет балладу, которая уже 22 сентября печатается в газете «Бакинский рабочий». Анализ публикаций 1922–1924 гг. позволил установить основные источники, которые Есенин использовал для получения информации о комиссарах и об обстоятельствах их гибели. Произведение посвящено «с любовью – прекрасному художнику Г. Якулову» – живописцу, графику и театральному художнику, одному из основателей имажинизма. В газете «Бакинский рабочий» был опубликован разработанный им эскиз памятника 26 комиссарам. Поэт упоминает только двух из них – С.Г. Шаумяна и П.А. Джапаридзе, основавших в 1906 г. газету «Бакинский рабочий» (их фамилии публиковались под шапкой издания). Для Есенина важно, что дело бакинских комиссаров, за защиту которого они заплатили своими жизнями, живо и увенчалось успехом. Герои баллады вступают в посмертный диалог, радуясь успехам советского Азербайджана.
С.А. Есенин, баллада, «Баллада о двадцати шести», Бакинская коммуна (1918), литературные контексты, политические контексты
Короткий адрес: https://sciup.org/149149388
IDR: 149149388 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-189
Текст научной статьи «Баллада о двадцати шести» C.А. Есенина: литературные и политические контексты
«Баллада о 26» – одно из не очень многочисленных произведений С.А. Есенина, написанных на острую, политически и социально актуальную тему. Если в таких стихотворениях как «Бельгия», «Греция» (оба – <1914>) и «Польша» (<1915>) – откликах на Первую мировую войну – отразились события, информацию о которых поэт фактически в реальном времени получал из газет и в общении с современниками, то для баллады характерен ретроспективный взгляд на исторически значимый факт. Произведение создано в сентябре 1924 г. – в день шестой годовщины гибели руководителей Бакинской коммуны 1918 г. и некоторых других лиц, которых в отечественной историографии принято называть бакинскими комиссарами. Все необходимые сведения по ее истории, поражению и сохранению памяти о расстрелянных комиссарах Есенин получил непосредственно в период работы над произведением. Материалы предоставил ему П.И. Чагин – в то время второй секретарь ЦК КП Азербайджана и редактор газеты «Бакинский рабочий» – органа Центрального и Бакинского комитетов Азербайджанской коммунистической партии, Азербайджанского ЦИКа и Бакинского совета (подробнее о газете см.: [Скороходов 2023]).
Первая встреча поэта с политическим деятелем состоялась в Москве в начале февраля 1924 г. – Чагин приехал в столицу СССР как делегат Второго всесоюзного съезда Советов. Знакомство быстро переросло в дружбу – Чагин, который был моложе Есенина на три года и увлекался современной поэзией, не только пригласил поэта в Азербайджан, но и обещал ему показать Персию, а «если захочет, то и Индию» [Чагин 1986, 160]. Есенин, с юности интересовавшийся Востоком, не мог отказаться от подобного предложения. Третьего сентября поэт отправился в Закавказье, где провел более полугода. В Баку он приехал из Тифлиса 19 сентября – в тот день, когда «Бакинский рабочий» «на трех первых полосах печатает материалы, посвященные жизни, борьбе и гибели 26 бакинских комиссаров» [Летопись 2010, 409].
С Чагиным Есенин встречается 20 сентября – в день памяти бакинских комиссаров, и политик предлагает поэту написать для следующего номера «Бакинского рабочего» стихи, посвященные значимому для советского Азербайджана событию. Отметим, что в тот же день, 20 сентября, в тифлисской газете «Заря Востока» была опубликована поэма В.В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным, об этом дадут настоящий стих, а я лишь то, что сегодня можно, скажу о деле 26-ти» (впрочем, строки Есенина «Нефть как черная / Кровь земли» [Есенин 1997, 119] перекликаются со словами из другого стихотворения Маяковского – «Баку» (1923): «Баку. / Ручьи – / чернила нефти» [Маяковский 2013, 275]). Соответственно, у Есенина, неоднократно полемизировавшего с Маяковским, появилась возможность написать «настоящий стих», чем он не преминул воспользоваться.
Согласившись с предложением политика, поэт сразу же получает от него большое число материалов по теме. Как вспоминал Чагин, «недостатка в них в Баку не было. Так, например, номер “Бакинского рабочего” к предшествующей годовщине с такого рода материалами был выпущен на двадцати восьми полосах. Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моем редакторском кабинете» [Чагин 1986, 161]. Поэт работает очень быстро и необычайно продуктивно: баллада написана в ночь с 20 на 21 сентября в редакционном кабинете Чагина.
В балладе отразились реальные события 1918 г. и их последствия. 25 апреля в столице Азербайджана была провозглашена Бакинская коммуна, председателем регионального СНК и комиссаром по внешним делам избрали С.Г. Шаумяна. Члены СНК, в первое время рассчитывавшие на помощь англичан, позже попытались отказаться от внешнего давления. В ответ на это представители Великобритании в регионе приняли решение о «необходимости лишения комиссаров власти и подготовке нефтяных месторождений вместе с портовыми доками к подрыву в случае захвата города османскими войсками». Большинство членов Бакинского совета в конце июля проголосовало за приглашение англичан, СНК отправили в отставку, комиссары попытались эвакуироваться, однако потерпели неудачу. 26 августа они были арестованы по распоряжению правительства Центрокаспия и отправлены в тюрьму Красноводска; 20 сентября арестованных посадили в поезд, следовавший в Ашхабад, «однако между станциями Перевал и Ахча-Куйма в Агджагумской пустыне на 207-й версте Среднеазиатской железной дороги поезд был остановлен, арестанты выведены из него и зверски убиты в нескольких десятках метров от железнодорожной насыпи, а их тела спешно закопаны охраной поезда» [Сергеев 2019, 148–163]. Позже тела были эксгумированы, перевезены в Баку и 8 сентября 1920 г. с почестями захоронены на центральной площади города (в настоящее время на этом месте – фонтан).
После восстановления в Азербайджане советской власти началась мифологизация жизни и обстоятельств трагической гибели комиссаров. В числе первых поэтических откликов – стихотворения азербайджанских поэтов А. Гамгюсара (скончался 14 марта 1919 г.) [Девитт 1965, 6], А. Акопяна (1919 и 1920), В. Теряна (1919), А Варданяна (1921) и А. Вштуни (1923) [Савченко 2018, 226–228], грузинского поэта С. Эули (1920) [Девитт 1965, 156] и др.
Комплексный анализ есенинского текста позволяет не только с достаточной степенью обоснованности определить основные источники использованной поэтом информации, но и рассмотреть это произведение в историко-литературном, политическом и социальном контексте эпохи.
Прежде всего, обратим внимание, что из 26 бакинских комиссаров Есенин упоминает только двоих – С.Г. Шаумяна и П.А. Джапаридзе, именно тех, которые основали в 1906 г. газету «Бакинский рабочий» – их фамилии неизменно публиковались под шапкой издания.
Во-вторых, отметим посвящение: «С любовью – прекрасному художнику Г. Якулову» [Есенин 1997, 114]. Без учета контекста оно может показаться несколько странным: баллада, написанная к годовщине гибели комиссаров, защищавших советскую власть в Азербайджане, посвящена живописцу, графику и театральному художнику Георгию Богдановичу Якулову, одному из авторов, наряду с Есениным, «Декларации» имажинистов. Для прояснения этого вопроса необходимо обратиться к материалам, сообщающим об увековечении памяти бакинских комиссаров. На второй полосе упоминавшегося выше номера «Бакинского рабочего» от 19 сентября 1924 г. помещен эскиз памятника (рисунок модели) 26 комиссарам, выполненный Якуловым. Таким образом, Есенин обращается к художнику «с любовью» не только как к своему другу, но и как к современнику, который доступными ему художественными средствами стремился сохранить память о комиссарах.
В-третьих, читатель баллады обращает внимание на необычное не только для Есенина, но и в целом для русской литературной традиции название, в котором доминирует субстантивированное числительное (наряду с ним в заглавии – только указание на жанр и предлог). Изучение материалов, связанных с комиссарами, показывает, что при упоминании о них в печати утвердилась именно такая обобщенная характеристика – указание на число погибших. Так, подборка воспоминаний о комиссарах в «Бакинском рабочем» от 20 сентября 1923 г. называлась «Бакинские рабочие о 26»; заглавие статьи председателя Совета народных комиссаров Грузинской ССР Шалвы Элиавы на первой полосе этой же газеты от 19 сентября 1924 г. – «Кровью 26-ти скреплен фундамент Советского Союза»; название подборки воспоминаний бакинских рабочих в том же номере – «Через шесть лет о 26-ти»; заглавие поэмы Н.Н. Асеева в номере от 22 сентября 1924 г. (там же опубликована и есенинская баллада) – «26. Памяти павших».
В-четвертых, субстантивированное количественное числительное фигурирует не только в заглавиях, но и в самих текстах о бакинских комиссарах. Выявлены переклички есенинской баллады со стихотворением в прозе Александрова-Вольского «Борцам за свободу», опубликованным в «Бакинском рабочем» 19 сентября в подборке «Через шесть лет о 26-ти (Воспоминания бакинских рабочих)»:
Их было 26...
Жарко светило солнце, обливая красными лучами тружеников серпа и молота. <...>
В далеких песках Закаспия горячим песком задернуло трупы 26-ти. Острые пули пронзили сердца.
Их было 26. Сейчас их нет.
Но память о них и каленым железом не выжжешь из пролетарских сердец [Летопись 2010, 409–410].
В есенинской балладе неоднократно употребляется субстантивированное количественное числительное 26: «Их было / 26. / 26 их было, / 26» [Есенин 1997, 114]; «Здесь / Их было / 26» [Есенин 1997, 116]; «Над Баку / 26 теней. / Теней этих / 26» [Есенин 1997, 118]; «А на Востоке, / Здесь, / 26 их было, / 26» [Есенин 1997, 120]. Рефреном звучат слова: «26 их было, / 26» [Есенин 1997, 115, 117, 118, 121]. Субстантивированные количественные числительные широко применяются в книге «Памяти “26”. Материалы к истории бакинской коммуны 1918 года», выпущенной в 1922 г. в Баку под редакцией М. Лифшица и П. Чагина.
Вероятно, на Есенина произвел сильное впечатление зафиксированный Чичкановым рассказ рабочего:
На нашей станции начальник <…> просил, чтобы мы засыпали чаще трупы: от тепла трупы стали пухнуть, а засыпаны были неглубоко. И вот – то рука высовывалась, то нога. А по ночам в степи бегали «чикалки» (шакалы) и растаскивали части тел… Мы их засыпали… [Чичканов 1922, 72].
День памяти расстрелянных комиссаров рассматривался в Баку как время единения в борьбе с общим врагом, который, хотя и ослаб, но полностью еще не уничтожен. Об этом свидетельствует, в частности, опубликованный на первой полосе номера «Бакинского рабочего» от 17 сентября 1923 г. призыв: «Все на улицы, все на демонстрацию – 20-го сентября. В этот день бакинский пролетариат должен продемонстрировать свой пламенный гнев, свое сокрушительное негодование против капиталистических палачей, свою непреклонную волю к мести убийцам 26-ти <…>». Показательно написанное в 1918 г. Демьяном Бедным стихотворение «Не забывайте клятвы»: оно публиковалось в память о жертвах как Ленского расстрела 1912 г., так и «кровавого воскресенья» 1905 г., а в 1923 г. было помещено в номере «Бакинского рабочего», посвященном 5-й годовщине со дня гибели комиссаров, – и весьма удачно вписалось в новый контекст:
Мы дрогнули в те дни от страшной вести.
В один порыв сердца у всех слились. Мы плакали, готовясь к часу мести, И мы клялись.
Наш лютый враг, свершивший злой посев, Заслуженной дождался ныне жатвы.
Товарищи, да будет свят ваш гнев.
Идет борьба, не забывайте клятвы! [Бедный 1924, 7].
Для Есенина же важно, что дело бакинских комиссаров, за защиту которого они заплатили своими жизнями, живо и увенчалось успехом. Свидетельство тому – загробный и при этом оптимистичный диалог героев баллады – Шаумяна и Джапаридзе, причем последний повторяет слова лирического героя, меняя только одно слово – их на нас . «“Ночь, как дыню, / Катит луну. / Море в берег / Струит волну. / Вот в такую же ночь / И туман / Расстрелял нас / Отряд англичан”» [Есенин 1997, 119]. На эту особенность в 1925 г. обратил внимание И.Т. Филиппов: Есенин «пишет мощную балладу о двадцати шести <…> бакинских коммунистах, которые, вставая из могил по ночам, видят возрожденный руками пролетариата Азербайджан, и в этом – оправдание своей борьбы и гибели» [Филиппов 1925, 71].
Публикация баллады стала началом плодотворного сотрудничества Есенина с редакцией «Бакинского рабочего». Уже на следующий день после первой публикации, 23 сентября, была вторая – под общим заглавием «Стихи Сергея Есенина» появились стихотворения «Сукин сын» и «Отговорила роща золотая…», 24 сентября – «Русь советская» (без строк 32–35
и 45–48), 25 сентября под общей шапкой «Стихи С. Есенина» – «Этой грусти теперь не рассыпать…» и «Пушкину», 26 сентября под шапкой «Стихи Сергея Есенина» – «Низкий дом с голубыми ставнями…», 29 сентября под той же шапкой – фрагменты «“Страна негодяев”. Отрывки из драматической поэмы».
По сле Есенина при разработке темы трагической гибели комиссаров к жанру баллады обращались Е. Чаренц, Г. Маари, Г. Эмин и др. [Девитт 1965, 39]; памяти комиссаров посвятили свои произведения С. Обрадович (1930), С. Кирсанов (1938), В. Луговской (1956) и др.
«Баллада о двадцати шести», написанная в предельно сжатые сроки в не характерном для поэта жанре, имеющая любимую Есениным кольцевую композицию и включающая блоки лексических повторов, явилась ярким и значимым для русской литературы советского периода произведением, по священным памяти трагически погибших участников революционной борьбы.