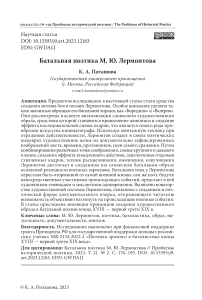Батальная поэтика М. Ю. Лермонтова
Автор: Поташова К.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в настоящей статье стали средства создания мотива боя в поэзии Лермонтова. Особое внимание уделено таким значимым образцам его батальной лирики, как «Бородино» и «Валерик». Они рассмотрены в аспекте визуализации словесного художественного образа, средством которой становится привлечение живописи и создание эффекта последовательной смены кадров, что является своего рода прообразом искусства кинематографа. Используя монтажную технику при отражении действительности, Лермонтов создает в своих поэтических шедеврах художественное целое из документально зафиксированных изображений места, времени, противников, сцен самого сражения. Путем комбинирования различных точек изображения, смены крупного и дальнего планов, создания эффекта замедленного действия, запечатления отдельно схваченных кадров, техник расцвечивания, оживления, озвучивания Лермонтов достигает в созданном им словесном батальном образе осязаемой реальности военных зарисовок. Батальная тема у Лермонтова перестала быть оторванной от самой военной жизни, сам же поэт, будучи непосредственным участником происходящих событий, предстает в ней художником-очевидцем и мыслителем одновременно. Выявлено новаторство художественной системы Лермонтова, связанное с созданием в поэтической форме документального очерка, открывающего читателю возможность объективно взглянуть на происходящие военные события. В статье прослежена эволюция принципов создания художественного образа в батальной поэзии конца XVIII - первой трети XIX в.
М. ю. лермонтов, поэтика, баталистика, образ, визуальность, документальность, монтаж
Короткий адрес: https://sciup.org/147241428
IDR: 147241428 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12183
Текст научной статьи Батальная поэтика М. Ю. Лермонтова
М ышление Лермонтова, «одаренного в области пластических искусств» [Поташова, 2021: 251], стремилось к зрительной конкретности, что обуславливает связь вербального и визуального в созданном им художественном образе. Эта особенность мышления поэта нашла свое отражение в привнесении остроты детальных описаний в словесный образ, что для его батальной поэзии стало ведущим качеством. Исследователями уже были сделаны отдельные наблюдения относительно своеобразия батальной поэтики в творчестве Лермонтова. Так, Н. А. Котляревский указал, что поэт «впервые описал на основании наглядного наблюдения» [Котляревский: 211] военную жизнь и потому открыл ее для читателя. Л. П. Гроссман отметил необычайную «эрудицию» [Гроссман: 710] поэта в области военного дела, способствующую созданию насыщенного деталями батального образа. Особенно значимые суждения, касающиеся батальной поэтики в творчестве Лермонтова, были высказаны в связи со стихотворениями «Бородино» и «Валерик», составляющими ядро батального текста поэта. В. М. Фишер выделил «простоту и прозаизм» [Фишер: 213] как специфические черты «Валерика» (1840), природа которых заложена в «большой силе наблюдательности» [Фишер: 212] поэта. В. А. Мануйлов отметил, что Лермонтов показывал военное сражение «с точки зрения одного из многих его участников, и эта позиция открыла новые художественные возможности для правдивого <…> изображения войны» [Мануйлов, Гиллельсон, Вацуро: 144], его «Бородино» стало «художественным открытием в истории русской реалистической поэзии» [Мануйлов: 68]. Е. М. Пульхритудова указала на «документальную достоверность каждой детали» лермонтовского «Валерика», что сделало это стихотворение явлением «необычайным», положившим начало «новому <…> подходу к изображению человека на войне» [Пульхритудова: 78]. Аналогичные оценки батальная поэтика Лермонтова получила и в современных исследованиях. В работах выделяются те же два показательных для баталистики поэта художественных приема — документальность, проявившаяся в достоверной передаче военной жизни (в стихотворении «Бородино»
происходит «достижение объективности»1; «трагической прозой войны»2 называется «Валерик»), и открытие нового типа лирического героя, который находится на поле сражения («изображение войны с точки зрения человека — рядового участника исторического события» [Ермоленко: 21]). Однако, указывая на документализм батального текста Лермонтова, ученые не проводили детальные наблюдения над средствами достижения этой достоверности. В то же время обращение к особенностям выстраивания Лермонтовым зримо воспринимаемого образа позволяет проследить эволюцию художественной системы в батальной поэзии конца XVIII — первой трети XIX в.
2. Категории возвышенного и ужасного в словесной баталистике конца XVIII — первой трети XIX в.
В сравнении с классицистическими канонами XVIII в. визуальное начало картин сражений в русской поэзии 1830-х гг. претерпевает значительное изменение. В XVIII — начале XIX в. в батальной поэзии наблюдалась тенденция к созданию масштабного, эффектного образа, ориентированного на порождение у читателя ответной реакции, парадоксально сочетающей восхищение исключительным и возвышенный ужас. Корреляция возвышенного и ужасного была в центре эстетической мысли классицизма. Э. Бёрк в своем «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757) в связи с соотношением двух эстетических категорий заключал: «Все, что в какой-либо степени является ужасным или связано с предметами, внушающими ужас или подобие ужаса, является источником возвышенного» [Бёрк: 72]. Э. Кант в «Наблюдениях над чувством прекрасного и возвышенного» (1764) ввел понятие «устрашающе-возвышенного» [Кант: 88], акцентируя в качестве основы этой эстетической категории «некоторый страх», необычное и нетипичное, что обуславливает возвышенное. Эстетика возвышенного обусловила в словесных военных картинах особый способ организации речи, отвечающий ораторской высокопарности. Батальная зрелищность рождала восторг и изумление как нечто необыкновенное и открытое взору, отсюда зрелищность и связанная с ней постановочная картинность явились ведущими категориями в баталисти-ке Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. Предметом восхищения в батальном образе становится прекрасное. В контексте описания боевого сражения прекрасное не связано с понятием красоты, оно сопрягается с трагическим, является необходимым требованием к созданию возвышенно-патетического образа, что и вызывает сложную ответную реакцию, совмещающую любование и ужас, как у Батюшкова: «И вот… о зрелище прекрасно! <…> Идут — безмолвие ужасно!»3. В контексте батального пространства прекрасное носит конкретно-исторический характер, под ним подразумеваются непосредственно сражение, образ полководца или воина. При реализации военной темы категория прекрасного преодолевает негативное жизненное содержание, связанное с трагедийностью разворачивающихся событий, и выступает мерилом высших качеств, истины и справедливости.
В поэзии второй половины 1820–1830-х гг. наметился отказ от нарочитой театральной картинности в пользу достоверности военных картин, поэтами выбирались иные механизмы эмоционального воздействия на читателя. Прежняя парадность батального образа (как, например, у Державина: «Зарница только в вышине / По их оружию играет…»4) была заменена описанием самого военного сражения. В поэме «Полтава» Пушкин представляет страшные военные картины сражения, тем самым закладывая реалистическую основу изображения битвы:
«Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят»5;
«Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон»6.
В то же время грандиозность военных картин позволяет говорить о том, что в батальном образе у Пушкина прежняя классицистическая экспрессивность все еще составляет основную тональность. В баталистике Лермонтова явственно наблюдается отказ от зрелищности в поэтическом пространстве военных картин в сторону передачи боли переживаний и размышлений о трагичности бытия человека. Ужасное по-прежнему остается у поэта одной из ведущих эстетических доминант и обобщающей визуальной номинацией. Однако в созданных им военных картинах в кавказских поэмах и в таких поэтических шедеврах, как «На поле Бородина», «Бородино», «Спор», «Валерик», наблюдаются отказ от категории устрашающевозвышенного , снижение, а затем и снятие интонации одической восторженности и риторической высокопарности. Поэт не ставит своей задачей эстетизацию военного сражения, а напротив, создает его как очевидец. Оттого батальному образу придается обостренно трагическое звучание: «Земля тряслась — как наши груди, / Смешались в кучу кони, люди»7. Реалистичность ужасного вызывает сложность для зримой и словесной передачи разворачивающихся событий: «О, если б мог пересказать я, / Изобразить ужасный час» (3: 195); «Для ужасов войны / Твои глаза не созданы, / Смерть не должна быть их предметом» (3: 144).
В баталистике Лермонтова ужасное выступает и оценочной категорией, и обобщенным визуальным образом, охватывающим, словами Ю. Б. Борева, «те обстоятельства, которые несут <…> катастрофические бедствия» [Борев: 210]. У поэта нет одиночной констатации ужасного, эта категория слагается из многочисленных деталей, составляющих батальные картины, как то: номинации оружия, пребывающего в действии, описания военных тактик, реакции человека: «Повсюду стук, и пули свищут; / Повсюду слышен пушек вой; / Повсюду смерть и ужас ме-щет» (3: 13); «Лишь ядры русские ревут / Над их, ужасно, головой. / По-малу тихнет шумный бой» (3: 14). Типичной для Лермонтова военной картиной является подробное звуковое и зримое описание сражения, заканчивающееся обобщением об «ужасности» происходящего («Была ужасна эта встреча» (3: 142)). И все же в его ранних кавказских поэмах элементы эстетизации в создании батального образа еще заметны. Хотя поэт и делает попытку выйти за границы эстетики, отказывается от классицистической цветности и сверкания оружия, но сцены сражений, данные взглядом извне, подобны прежним картинам, как например, в поэме «Ангел смерти»:
«Меж тем войска еще сходились
Всё ближе, ближе, — и сразились;
И треску копий и щитов,
Казалось, сами удивились» (3: 142).
В стихотворении «Валерик» Лермонтов формулирует принципиальное отличие новых батальных картин от прежней традиции зрелищного образа, помещая в контекст описания сражения примечательное указание о «любовании» битвой:
«Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья, Как на трагический балет.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет…» (2: 169).
В общее трагедийно-напряженное звучание стихотворения словно врываются сказанные в ироничном модусе сравнения военных картин с «трагическим балетом» и «представленьем». В данном контексте ирония у Лермонтова выступает «показателем объективизации субъективного сознания личности» [Скибин: 33], привносит в батальные картины элементы оце-ночности. Нарочитой прозаизацией Лермонтов разрушает прежнюю батальную традицию, переводит ее из сугубо описательного регистра в рефлексированное повествование. Последующими словами, которые звучат уже в ином ключе, не ироническом, но глубоко драматичном, поэт объясняет саму суть военного сражения:
«…и вы едва ли Вблизи когда-нибудь видали, Как умирают. Дай вам Бог И не видать…» (2: 173).
В своем батальном тексте Лермонтов переставляет акценты от отстраненного восприятия войны, ее изображения как разворачивающейся масштабной картины к новому реалистическому принципу. Реализм в изображении военных событий как глубоко личных и оттого достоверных ознаменовал переворот в поэтической передаче военных событий. Тем самым баталистика Лермонтова явила собой новый, основанный на документальной точности, вектор развития.
3. Изобразительные новации в создании батальных сцен
В силу непосредственного участия Лермонтова в военных событиях его баталистика — как словесная, так и живописная — характеризуется целым рядом новаций. Все они подчинены общей художественной установке — вызвать ответную реакцию сопричастности, создать образ-документ. Баталистика Лермонтова насыщена информацией. Поэт указывает на детали военного обмундирования ( «Уланы с пестрыми значками, / Драгуны с конскими хвостами» (2: 82) ) , оружия ( «Кто кивер чистил весь избитый, / Кто штык точил, ворча сердито» (2: 81) ) , фиксирует различные тактики ведения боя ( «Всё шумно вдруг зашевелилось, / Сверкнул за строем строй» (2: 81); «Наш рукопашный бой!» (2: 82); «Рассыпались в широком поле, / Как пчелы, с гиком казаки…» (2: 169) ) . Лермонтов привносит в баталистику развернутые описания сцен сражений, данные глазами участника событий, что определяет и саму форму поэтического представления. Батальное повествование Лермонтова основано на доверительном разговоре с собеседником, выработанная форма «обеспечивает создание впечатления говорения самой действительности» [Киселева, 2019 b: 23]. Это может быть разговор непосредственно на поле битвы, как в стихотворении «Поле Бородина»:
«Шумела буря до рассвета; Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал…» (1: 288).
В качестве организующей может быть ситуация диалога разных поколений, как в стихотворении «Бородино»:
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?» (2: 80).
Эти повествовательные модели в полной мере отвечают поставленной авторской задаче создания достоверного батального образа и, кроме того, заметно упрощают язык военного повествования, обуславливают отказ от громоздких одических конструкций. Традицию располагать поэта на поле битвы «рядом с воюющими россами» [Поташова, 2020: 264] заложил уже Державин, тем самым задав батальной оде эмоциональный посыл:
«Я здесь пою лишь браней честь.
Нас горсть, — но полк лежит пред нами;
Нас полк, — но с тысячьми и тьмами Мы низложили город в персть»8.
В то же время его взгляд на события отличается панорамностью и аллегоризмом:
«Уж блещут молнии крылами, Уж осыпаются громами — Они молчат, — идут вперед»9.
Лермонтов, помещая в батальный контекст конструкцию диалога, расширил эту поэтическую традицию. Поэту не нужно вживаться в описание того или иного батального эпизода. Основываясь на личном опыте, Лермонтов моделирует ситуацию доверительной беседы с участниками тех же событий или сторонним человеком, что позволяет достигнуть наибольшего эмоционального доверия читателя и, как указывает И. А. Киселева, «без какого-либо принуждения» воспитать читателя «в духе верности национальным идеалам» [Киселева, 2019a: 12]. Подобная организация батального текста стала оригинальной находкой Лермонтова и дала ему возможность совместить доверительное начало, проявившееся в повествовании от лица непосредственных участников событий — «прямых, искренних героев: старый солдат-артиллерист, боевой полковник» [Гулин: 12] — с патетическими интонациями («Не то, что нынешнее племя: / Богатыри — не вы!»; «Не будь на то Господня воля, / Не отдали б Москвы!» (2: 80); «Уж постоим мы головою / За родину свою!» (2: 81)). Отсюда часто возникает сложность в жанровом определении тех произведений Лермонтова, в которых присутствует мотив боя. И «Бородино», и «Валерик» объединяют в себе и лирическое, и эпическое начало, совмещают «событийную насыщенность эпоса, оценочность лирики и динамизм и визуальность драмы» [Карпенко: 74].
Диалогичная основа организации повествования обусловила появление у Лермонтова ретроспекции нового характера. В классицистической оде было важно вписать батальное событие в исторический процесс; наряду с описываемым событием в оде звучали обращения к героическим событиям прошлого, воспеваемое сражение помещалось в своеобразную поэтическую летопись. Особенно показательной в этой связи является баталистика Державина («Как зверь, его Батый рвет глад-ный, / Как змей, сосет лжецарь коварный, — / Повсюду пролилася кровь!»10) и Жуковского («О Святослав, бич древних лет, / Се твой полет орлиный»; «И ты, неверных страх, Донской, / С четой двух соименных»11). Лермонтов отказывается от подобных записей исторического характера, его обращения к прошлому приобретают более личный характер. Уже в своем раннем, ориентированном в ораторском звучании на классицистическую баталистику стихотворении «Поле Бородина» Лермонтов упрощает ретроспекцию, включает в нее собственную оценку:
«Что Чесма, Рымник и Полтава? Я вспомня леденею весь, Там души волновала слава, Отчаяние было здесь» (1: 289).
В стихотворении «Бородино» Лермонтов идет дальше в этом же направлении и вписывает сражение в события недавнего прошлого, констатируя: «Ведь были ж схватки боевые? / Да, говорят, еще какие!» (2: 80). В «Валерике» использована аналогичная отсылка к событиям недавнего прошлого:
«Как при Ермолове ходили В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били» (2: 168).
Для поэта несомненно значимым является военное событие в контексте всей русской истории ( «Не даром помнит вся Россия / Про день Бородина!» (2: 80) ) , хотя особенностью батального текста Лермонтова является сужение временного отрезка от разворачивающейся летописи до жизни одного человека, что обуславливает использование ситуации воспоминания при создании картин боя.
В форме воспоминания Лермонтов представляет и само сражение. Здесь следует обратить внимание на такую характерную особенность поэтической рефлексии Лермонтова, как размышление с помощью не отдельно расположенных, самостоятельных картин, а сюжетов, подобным фильмам. Такая организация текста объясняется спецификой художественного мышления Лермонтова, которая заключается в присущей ему событийности. Поэт располагает семантически значимые объекты-события во взаимодействии, в их хронологической последовательности. Отсюда для его батальных произведений значимым приемом организации повествования является последовательное выстраивание логической цепочки из череды действий. Неслучайно свои произведения о войне Лермонтов часто называет в честь какого-либо события, конструирующего сюжетный стержень, на который в дальнейшем будут нанизываться детали этого события: «Бородино», «Поле Бородина», «Валерик». Заключенная в названии пространственная координата, место сражения, способствует максимальной концентрации повествования на происходящем. Так, в стихотворении «Бородино» описание битвы поэт строит на событийных узлах, точно фиксирует основные точки ведения боя: «Мы долго молча отступали, / Досадно было, боя ждали…»; «И вот нашли большое поле…»; «Построили редут»; «Французы тут-как-тут»; «Два дня мы были в перестрелке»; «Прилег вздремнуть я у лафета» (2: 80, 81).
Событийное мышление обуславливает в батальном тексте Лермонтова обилие глагольных конструкций. Поэт не помещает портретов полководцев, но точно чувствует и передает их движения. Череда действий, происходящих на поле сражения, складывается в повествовательное единство, состоящее из движущихся изображений. В результате рождается своего рода кинолента, обладающая цветовой насыщенностью («утро осветило»; «леса синие верхушки»; «небо засветилось» (2: 80, 81)) и звуковой наполненностью («слышно было»; «звучал булат»; «картечь визжала»; «затрещали барабаны» (2: 81, 82)).
В стихотворении «Валерик» еще более четко просматривается параллель между словесной передачей батального образа и кинолентой. Описание сражения, произошедшего в июле 1840 г. между Чеченским отрядом генерала А. В. Галафеева и горцами, Лермонтов поместил в контекст письма, адресованного возлюбленной. Поэтическое пространство стихотворения характеризуется одновременным наличием нескольких временных и пространственных планов. Это точка, в которой в данное время находится лирический поэт, работающий над письмом («Я к вам пишу случайно; право / Не знаю как и для чего» (2:166)), затем точка изображения прошлого, в котором происходило сражение («Зашевелилася пехота; / Вот проскакал один, другой!» (2: 168)), притом оба этих временных промежутка создаются как настоящее, в обоих моделируемых пространствах акцентируется авторское присутствие. Просматривается и предпрошедшее время, в котором происходили как героические события («Как при Ермолове ходили / В Чечню, в Аварию, к горам» (2:168)), так и события в частной жизни лирического героя («И долго, долго вас любил»; «Влачил я цепь тяжелых лет» (2: 167)). Ситуация письма обуславливает форму изложения событий — последовательное воссоздание пережитой ситуации. Эта повествовательная манера задается уже в начале письма: «Страницы прошлого читая, / Их по порядку разбирая…» (2: 166). Лирический поэт вспоминает пережитые события, как бы прокручивает их в памяти, при этом события предстают не чередой отдельных картинок, но объединенными в словесный фильм. Как и в стихотворении «Бородино», в «Валерике» Лермонтов вновь выстраивает объемное повествование, основанное на последовательном перечислении событий, смене разворачивающихся пространств. При этом взгляд поэта находится по эту же сторону описываемых событий, он не панорамный, а внутренний, благодаря чему создается психологически точный мотив боя, отличный от грандиозных картин и «Взятия Измаила» Державина, и «Полтавы» Пушкина. Лермонтов не моделирует сражение, но представляет его во всей правдивости увиденных деталей. Конструируя последовательность событий, поэт предвосхищает принцип монтажа, который разрабатывался позднее в кинематографе и активно применялся к повествовательному тексту ХХ в. В то же время именно сам жанр «Валерика» — послание, формальным признаком которого следует назвать повествовательное начало, связь с «конкретными <…> синхронными времени написания фактами»12, является по своей природе синтетической формой. Послание предполагает выход за границы словесности и тяготеет к своего рода кинематографич-ности, проявившейся в сложности пространственных координат, создании динамичного образа, организации звуковых и зрительных рядов.
Переходя от монолога с предполагаемым адресатом послания собственно к картине сражения, поэт меняет свою роль активного мыслителя на созерцателя, нарочито констатируя отказ от размышления в пользу наблюдения: «Простора нет воображенью… / И нет работы голове…» (2: 167). И здесь намечается ситуация воспоминания. Увиденное и пережитое выстраивается на своеобразном мысленном экране с уже иным хронотопом: поэт обращает свой мысленный взор в прошлое. На экране памяти, «отражающем <…> образность мыслей» [Киселева, Поташова: 137], события прошлого проецируются не как череда картинок, но в отчетливо разворачивающейся форме фильма, где все окружающее одновременно визуализируется, озвучивается, ощущается, находится в движении, то есть оживает. Кинематографичность «Валерика» проявилась в покадровом видении событий. Создавая словесный фильм, Лермонтов движется от частных наблюдений («Мирной татарин свой намаз / Творит, не подымая глаз…»; «А вот кружком сидят другие»; «Ведут коней на водопой» (2: 168)), неспешно воссоздающих кавказский колорит, к событиям самого сражения, данным в динамике и быстрой смене действий («Генерал / Вперед со свитой поскакал…»; «Рассыпались в широком поле…»; «Казак пустился гребенской…»; «Винтовку выхватил проворно…»; «Бежал поток. Подходим ближе. / Пустили несколько гранат...» (2: 168-169, 170)). Читатель становится свидетелем того, как на мысленном экране рождается и облекается в словесную форму воображаемая лента — цепочка сюжетных изображений, события происходят одно за другим, с той скоростью, как это и происходило в реальности.
Личное участие лирического героя в сражении подчеркивается целым рядом новых для баталистики изобразительных приемов. Традиционную формулу «я вижу», используемую Державиным и Батюшковым для воссоздания модели реальности, Лермонтов меняет на призыв «смотрите» ( «Сейчас, смотрите: в шапке черной / Казак пустился гребенской…» (2: 169) ) , в котором подчеркивается, что сам лирический герой находится в ситуативном контексте и призывает других поверить в увиденное им.
Языковыми приемами словесного монтажа батальной сцены выступают многочисленные конструкции с частицей «вот», использующиеся Лермонтовым с целью организации пространственного строя картины, склеивания эпизодов в целое: «А вот в чалме один мюрид…», «Вот ружья из кустов [вы]-носят…», «Вот тащат за ноги людей…», «А вот и слева, из опушки, / Вдруг с гиком кинулись на пушки…» (2: 169, 170). Посредством этих конструкций со зрительной семантикой происходит визуализация художественного образа — поэт делает доступными глазу даже самые мельчайшие детали военной жизни отряда, горцев, картин природы.
Примечательны и колористические детали стихотворения. В литературной традиции этим свойством наделялось оружие. С помощью цветообозначений ему придавалась качественная характеристика победоносности. Эта особенность в создании сцены сражения была заложена еще в древнерусской воинской повести, как то наблюдается в «Задонщине» («а на собѣ злаченыи доспѣхи»13), а затем развита в поэзии XVIII в. У Лермонтова оружие дополнительными характеристиками не наделяется, при этом бросается в глаза разнообразие его видов: это и пороховое, и колющее, и стрелковое оружие («градом пуль»; «несколько гранат»; «винтовку выхватил»; «вон кинжалы» (2: 169,170)). Единожды упомянутая в связи с оружием визуальная характеристика («Но вот над бревнами завала / Ружье как будто заблистало...» (2: 170)) указывает на тактику ведения боя. Находящееся в действии оружие наделяется не визуальными, а звуковыми характеристиками: «звенят орудья», «прожужжала шальная пуля» (2: 168). Все эти детали замедляют динамично развивающееся действие. Прицельная фиксация оружия задает эффект замедленного кадра, способствующего восприятию событий как бы в трехмерном, объемном изображении. Цветовыми характеристиками в батальной сцене наделены отдельные этнографические детали («в черкеске красной», «в шапке черной» (2:169)) и природные зарисовки, яркие и насыщенные цвета которых повторяют «пейзажный колорит» [Киселева, 2019с: 94] описания Бородинского сражения: «лазурно-яркий свод небес», «лес синел», «зелеными шатрами», «конь светло-серый» (2: 169, 170, 172). Точно схваченные цвета природы и бытовой жизни усиливают восприятие батального образа.
Помимо лексических приемов достижения достоверности, поэт задействует в качестве инструмента визуализации и синтаксис. Поэтическому синтаксису Лермонтова свойственна эмоциональная насыщенность, но это не патетические восклицания, а художественно конкретизирующие конструкции. Последовательность повествования достигается путем намеренного членения фразы на более мелкие составные части. При описании тактики сражения такие дробные конструкции придают действию длительность, напряженность:
«Всё тихо — там между кустов Бежал поток. Подходим ближе. Пустили несколько гранат;
Еще продвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало…» (2: 170).
Отмечая особенности представления поэтом военной темы, следует подчеркнуть, что у Лермонтова баталистика лишена прежнего одического звучания. Следуя собственной программе батальной темы и используя новые механизмы создания визуального образа, Лермонтов привнес в русскую поэзию детальные описания боевых сражений, созданных наподобие разворачивающихся кинолент. Ориентированные на естественность и документальность батальные образы у Лермонтова приобретают ярко выраженный информативный характер.
4. Заключение
Рассмотрение баталистики Лермонтова в аспекте визуализации художественного образа выявляет целый ряд новаций в художественной системе поэта. Державин, Батюшков, Пушкин в создании батальных образов были ориентированы на создание эмоционально сильной, но в то же время аллегорически представленной картины, стремились вывести на первый план личное впечатление или размышление, но еще во многом испытывали влияние классицистической традиции. Созданные ими военные образы масштабны, вписаны в исторический процесс, война у них сродни стихии, а потому одическое изображение ее ориентировано на создание сильного впечатления, реакции, совмещающей восторг и ужас. Лермонтов в своем творчестве принципиально меняет концепцию изображения войны. Созданное им описание сражения не имеет прежнего панорамного характера, оно сужается и предстает в многочисленных деталях. Привнося в поэтику батального образа обилие глагольных конструкций, Лермонтов задает описанию сражения событийность: находящиеся в действии изображения складываются в повествовательное единство, аналогичное киноленте. Сам поэт, будучи непосредственным участником происходящих событий, предстает в ней художником-очевидцем и мыслителем одновременно, показывает взгляд на событие изнутри, привносит в военные картины ощущение истории. Изменения визуального инструментария баталистики Лермонтова связаны как с общим вектором движения художественной системы от классицизма к реализму, так и с ориентированностью на передачу личного, пережитого и прочувствованного.
Список литературы Батальная поэтика М. Ю. Лермонтова
- Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство, 1979. 237 с.
- Борев Ю. Б. Эстетика: в 2 т. Смоленск: Русич, 1997. Т. 1. 576 с.
- Гроссман Л. П. Лермонтов и культуры Востока // М. Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.: Изд-во АН СССР, 1941. Кн. 1. С. 673–744. (Сер.: Литературное наследство; т. 43/44.)
- Гулин А. В. Небесный ангел Михаила Лермонтова (Духовный опыт как творческая категория) // Два века русской классики. 2023. Т. 5. № 1. С. 6–35 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/ru/nomera-zhurnala/82-2023-tom-5-1/903-nebesnyj-angel-mikhaila-lermontova-dukhovnyj-opyt-kak-tvorcheskaya-kategoriya (02.04.2023). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35
- Ермоленко С. И. «Поле Бородина» — «Бородино»: к проблеме «самоповторений» М. Ю. Лермонтова // Филологический класс. 2012. № 1 (27). С. 18–21 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/archive/2012/27/pole-borodina-borodino-k-probleme-samopovtorenij-m-yu-lermontova (14.03.2023).
- Кант И. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного // Кант И. Сочинения: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 2. С. 85–142.
- Карпенко Л. Б. Поэма-диалог М. Ю. Лермонтова «Бородино» как художественный и речевой жанр // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 4 (126). С. 73–78 [Электронный ресурс]. URL: http://vestniksamsu.ssau.ru/index.php?c=issueArticle&articleId=1237&issueId=43&serieId=2 (17.03.2023).
- Киселева И. А. Прочтение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837) как духовный опыт обретения патриотического чувства // Литература в школе. 2019. № 8. С. 12–15 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39491490 (17.03.2023). EDN: UVHQQL (a)
- Киселева И. А. Функции диалога в поздней лирике М. Ю. Лермонтова // Культура и образование. 2019. № 3 (34). С. 21–29 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41652105 (13.03.2023). DOI: 10.24411/2310-1679-2019-10303 (b)
- Киселева И. А. О смысловой цельности дефинитивного текста поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1839) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 91–106 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571057107.pdf (20.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6422 (c)
- Киселева И. А., Поташова К. А. Динамическая поэтика в истории текста стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 130–145 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582891437.pdf (20.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2020.6742
- Котляревский Н. А. Николай Васильевич Гоголь, 1829–1842: очерк из истории русской повести и драмы. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. 580 с.
- Мануйлов В. А. Бородино // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 67–68.
- Мануйлов В. А., Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э. М. Ю. Лермонтов: семинарий. Л.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1960. 461 с.
- Поташова К. А. Поэтическая формула «я вижу» в творчестве К. Н. Батюшкова: творческое усвоение державинской традиции // Научный диалог. 2020. № 8. С. 258–271 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/1845 (02.03.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2020-8-258-271
- Поташова К. А. Традиции и новаторство русской литературы конца XVIII — первой трети XIX века в аспекте усвоения опыта живописи. М.: Флинта, 2021. 376 с.
- Пульхритудова Е. М. Валерик // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 78–79.
- Скибин С. М. Особенности иронии в зрелой лирике М. Ю. Лермонтова // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2023. Т. 1. № 1 (40). С. 24–33 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50330658 (02.04.2023). DOI: 10.51965/2076-7919_2023_1_1_24. EDN: LJCDUX
- Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову: юбилейный сб. М.; Пг.: Изд. т-ва «В. В. Думнов, наследники бр. Салаевых», 1914. С. 196–236.