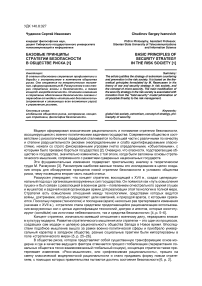Базовые принципы стратегии безопасности в обществе риска
Автор: Чудинов С.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 22, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснована стратегия профилактики и борьбы с экстремизмом в контексте общества риска. Она опирается на теоретические положения, сформулированные М. Расмуссеном в его теории стратегии войны и безопасности, а также концепт микробезопасности. Основное изменение в стратегии обеспечения безопасности связано с переходом от модели «тотальной безопасности» (стремления к элиминации всех возможных угроз) к управлению рисками.
Глобальное общество риска, экстремизм, концепция стратегии, философия безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/14937913
IDR: 14937913 | УДК: 140.8:327
Текст научной статьи Базовые принципы стратегии безопасности в обществе риска
Модерн сформировал классические рациональность и понимание стратегии безопасности, ассоциирующиеся с военно-политическими задачами государства. Современное общество в соответствии с рискологической парадигмой сталкивается по большей части с различными по качеству и степени разрушительности рисками (неопределенными и слабо идентифицируемыми опасностями), нежели со строго фиксированными угрозами (четко определенными, «объективными», с которыми было призвано бороться государство) [2]. Очевидно, что опасности, подстерегающие общество и государство, значительно изменились с той эпохи, когда были заложены основы стратегического мышления, сопряженного с развитием суверенных национальных государств.
Эти фундаментальные изменения подвергает пристальному анализу в теоретическом труде М. Расмуссен [3]. Рассмотрим наиболее важные тезисы его исследования в целях создания опоры для обнаружения принципов новой стратегии безопасности в условиях общества риска, чему посвящена вторая часть нашей статьи.
Расмуссен утверждает, что концепт стратегии, восходящий к XVII в., создал целерациональный подход к организации вооруженных сил государства. Он появился как «путь осмысления пушек» и был связан с революцией в военном деле – появлением огнестрельного оружия (пушек и мушкетов) и задачей новой организации армии для реализации этой технологии в полной мере. Стратегия есть осмысление отношений между технологиями, средствами которых ведутся войны, доктринами, которые определяют цели кампаний, и природой врагов, с которыми сражаются. Поскольку первое (технологии) и последнее (враги) несколько раз претерпевали изменения (начиная с XVII в.), «стратегия стала средством продолжающейся рационализации использования вооруженных сил с целью идентификации технологий, доктрин и агентов, которые конституируют (constitute) как источники небезопасности, так и средства безопасности» [4, p. 5–6].
Концепт стратегии, изначально имевший отношение к военному делу, неразрывно вписан в культуру модерна. Развитие стратегического мышления или стратегии – это один из процессов, создавших сам модерн и целевую рациональность общества Запада в Новое время. Впоследствии подобное мышление вышло за рамки военно-политической сферы и приобрело универсальный характер в западном обществе, разные социальные практики были импортированы в поле «стратегического мира» [5, p. 25–26].
В обществе риска, которое представляет собой существенную трансформацию основ модерна и где в качестве ведущего фактора отмечается процесс глобализации (перерастания локальных обществ в тесно взаимосвязанный глобальный социум), концепция стратегии также претерпевает изменения. «Риск-мышление», или «рефлексивная рациональность», пришло на смену классической модернистской рациональности и стало придавать форму новым стратегиям, с помощью которых правительства пытаются достичь состояния безопасности [6, p. 2].
Стратегии, связанные с рискологическим мышлением, имеют три характерные особенности, вытекающие из системных параметров общества риска. Во-первых, стратегии обеспечения безопасности обусловлены принципом управления (менеджментом) рисками, а не стремлением к элиминации всевозможных угроз. Расмуссен более детально формулирует эту мысль так: «Стратегия – это больше не вопрос о том, как ликвидировать конкретные угрозы с целью обретения безупречной безопасности; вместо этого она стала путем управления рисками» [7, p. 11]. Во-вторых, они испытывают действие такого фактора, как «присутствие будущего» [8, p. 37–38]. Риск – предвосхищаемая возможность опасности, ожидающей нас в будущем. Рискологическое мышление, согласно выражению Э. Гидденса, связано с «колонизацией будущего», когда решения в настоящем определяются прогнозируемыми результатами в будущем, которое еще не наступило и потому не является реальным, но уже оказывает воздействие. В-третьих, новые стратегии безопасности учитывают «эффект бумеранга» от принятых решений и социально значимых действий [9, p. 39–40]. Это означает, что в обществе риска политические решения и военные действия могут откликнуться в виде асимметричного ответа, как в случае с атаками транснациональных террористических сетей и терроризмом смертников.
Учитывая аналитический механизм объяснения трансформации стратегического мышления, разработанный в исследовании Расмуссена, далее предпринята попытка обоснования базовых принципов жизнеспособной модели обеспечения безопасности в условиях глобального общества риска.
Основной принцип стратегии обеспечения безопасности заключается в переходе от модели «тотальной безопасности» (стремления к элиминации всех возможных угроз государству и обществу) к управлению рисками. Ее базовая онтологическая предпосылка: риск есть неотъемлемая часть любых процессов в современном технологически сложном и аксиологически децен-трированном социуме. При определении основ государственной стратегии обеспечения безопасности уже не идет речь о создании безупречной защиты общества от всевозможных объективных опасностей. В обществе риска скорее принято говорить о том, какие из рисков допускаются в качестве приемлемых, а каких следует избегать.
В условиях виртуализации социальной реальности развитых стран и новых форм деструктивного воздействия (информационно-психологические атаки, технологии манипуляции общественным сознанием) бессмыслен вопрос об «объективности» или «субъективности» природы политических и общественных рисков. Они вторгаются в жизнь современного человека и от них невозможно укрыться, поскольку многие из них носят глобальный характер. Виртуальные риски, созданные медиатехнологиями, а также «субъективные» риски, связаные со страхами и фобиями, циркулирующими в социуме, при сопутствующих условиях могут иметь вполне разрушительные для государства последствия. Реалистичной стратегией в данном случае выступает выбор меньших из возможных рисков с привлечением квалифицированных экспертных оценок. При прогнозировании результатов следует учитывать цепочки рисков и «эффект бумеранга» от политических решений.
Второй принцип обеспечения безопасности в обществе риска связан с принятием во внимание разрозненности организации социума, построенного на основе либерально-демократической модели, и тенденции к усилению фактора самоорганизации и спонтанности в социальных процессах. Его суть сводится к делегации государством части функций по обеспечению безопасности и в первую очередь профилактики экстремизма локальным сообществам, гражданским и общественным организациям, а также переходу от глобальных стратегий, обеспечиваемых инертным бюрократическим аппаратом власти, к динамичным механизмам мезо- и микробезопасности.
Концепт микробезопасности был концептуализирован в некоторых публикациях новосибирского ученого Е.В. Щекотина. Микробезопасность показывает необходимость схождения практик обеспечения безопасности с государственного уровня до повседневной жизни индивидов. Хрупкость, непрочность больших социальных систем, таких как государство, приводят к требованиям конструирования безопасности на микроуровне [10, с. 42]. Однако здесь не имеется в виду то «импортирование» общественных сфер в область стратегического мира (подчас в виде вульгаризации стратегии), о чем говорит Расмуссен. Скорее, речь может идти о поиске жизнеспособных ценностных оснований повседневности, которые могут стать «защитным коконом» от информационно-психологических и манипулятивных воздействий со стороны как экстремистских идеологий субгосударственных агентов, так и подрывных технологий других стран (в контексте геополитической конкуренции).
Микробезопасность, переходящая на уровень мезобезопасности (социальных групп), также подразумевает высокий уровень гражданского самосознания и способности к самоорганизации перед возможными угрозами. Эта стратегия также требует более гибкого мышления, возможности системного прогнозирования, постоянного переопределения и идентификации угроз и рисков, в отличие от традиционного милитаристского подхода. Он работает лишь с определенным набором угроз (прежде всего военно-политического характера) и имеет тенденцию к громоздкости государственного аппарата, а соответственно – усилению инертности систем обеспечения безопасности.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-530.2014.6.
-
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 381 с.
-
3. Rasmussen M.V. The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century. N. Y., 2006. 224 p.
-
4. Ibid. P.5–6.
-
5. Ibid. P. 25–26.
-
6. Ibid. P.2.
-
7. Ibid. P.11.
-
8. Ibid. P. 37–38.
-
9. Ibid. P. 39–40.
-
10. Щекотин Е.В. Проблема безопасности в обществе риска: микростратегии и качество жизни // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 1 (5). С. 36–42.
Список литературы Базовые принципы стратегии безопасности в обществе риска
- Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-530.2014.6
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 381 с. 3. Rasmussen M.V. The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century. N. Y., 2006. 224 p
- Щекотин Е.В. Проблема безопасности в обществе риска: микростратегии и качество жизни//Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 1 (5). С. 36-42