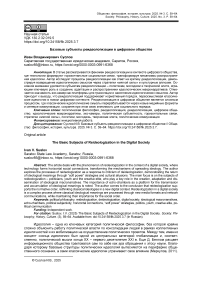Базовые субъекты реидеологизации в цифровом обществе
Автор: Суслов И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен реидеологизации в контексте цифрового общества, где технологии формируют горизонтальные социальные связи, трансформируя механизмы распространения идеологии. Автор исследует процессы реидеологизации как ответ на критику деидеологизации, демонстрируя возвращение идеологических смыслов через стратегии «мягкой силы» и культурные аллюзии. Основное внимание уделяется субъектам реидеологизации - политикам, молодежи и творческой элите, играющим ключевую роль в создании, адаптации и распространении идеологических макронарративов. Отмечается значимость эхо-камер как платформы для трансляции и накопления идеологических смыслов. Автор приходит к выводу, что реидеологизация поддерживает нормативный порядок, переосмысливая классические идеологии в новом цифровом контексте. Реидеологизация в цифровом обществе является сложным процессом, где классические идеологические смыслы перерабатываются через новые медийные форматы и сетевые коммуникации, сохраняя при этом свою значимость для социального порядка.
Политическая философия, реидеологизация, деидеологизация, цифровое общество, идеологические макронарративы, эхо-камеры, политическая субъектность, горизонтальные связи, стратегии «мягкой силы», политики, молодежь, творческая элита, политическая коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/149148119
IDR: 149148119 | УДК: 130.2:32.019.5 | DOI: 10.24158/fik.2025.3.7
Текст научной статьи Базовые субъекты реидеологизации в цифровом обществе
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия, ,
, 0000-0003-0991-6368
Конец идеологии также связывался с концом истории, провозглашенным Ф. Фукуямой именно как победа либеральной идеологии над оппонентами, после которой становятся невозможными идеологические конфликты и идеологические войны (Хрусталев, Лебедева, 1990).
Эта позиция активно развивалась теоретиками деидеологизации, благодаря которым закрепилось определение последней как процесса вытеснения идеологии научно-технической революции, такая дефиниция возможна именно в русле марксистского понимания идеологии как ложного сознания. Тем не менее при конкретизации деидеологизация неизбежно сводилась к апологии демократии. Так, Е.В. Лукаревская, анализируя взгляды одного из создателей самой влиятельной версии теории деидеологизации С.М. Липсета, показывает, что его базовым тезисом является отождествление отказа от идеологии с отказом от советской коммунистической идеологии (Лукаревская, 2018) и возведение демократии в культ. При этом С.М. Липсет обращался к идеям оправдания и возвышения массового общества Э. Шилза, которые сводились к тому, что массовая культура способна заменить идеологии и вытеснить их из медиасферы.
Однако опыт социальной жизни при официальном запрете идеологии довольно быстро привел российских исследователей к мысли о том, что деидеологизация является в лучшем случае мифом, а в худшем – завуалированной пропагандой либерализма, подрывающей жизнеспособность конкурирующих идейных систем: «идеология является неотъемлемой частью государственной стабильности, отсутствие идеологических ориентиров ведет к подрыву общенациональных ценностей, дезориентации человека в социуме… В современной России происходит явная реидеологизация общественной жизни, усматривается необходимость в выработке идеологии, способной выступить консолидирующим фактором в становлении новой российской государственности» (Баранец, Калантарян, 2012). Национальное строительство остро нуждается в едином взгляде на историю и проект будущего, которые можно сформулировать только с помощью идеологии (Афанасьев, Тихонова, 2007), на этой основе начинает формироваться и исследовательский интерес к теме реидеологизации.
Наиболее четко сформулировал мысль о беспочвенности идеи конца идеологии К.С. Гаджиев, предложив весьма ценный для нас вывод о последствиях постмодернистского аксиологического релятивизма: «В современном мире большинство сообществ, движений, организаций знают, чего они не хотят, но не имеют представления о том, чего хотят» (Гаджиев, 2016: 100). Эта ситуация объясняется не столько агонией идеологии, сколько доктринальной беспомощностью идеологов того времени, не готовых отказываться от родной им идеологической системы и не способных выдвигать инновационные идеи, раскрывающие смысл политического будущего и политического прошлого массам, и вместо этого превращающих медиасреду в калейдоскоп де-центрированных имиджей и авторитетов. Последний, конечно, можно трактовать как «взрыв идеологий», описанный П.С. Гуревичем (Гуревич, 1981: 78), поскольку в их содержании используются идеологемы и политические мифологемы, но идеология – это, прежде всего, когерентность концептуальных элементов. Есть основания утверждать, что постмодернистская и метамо-дернистская ирония несколько избыточно позиционировались как единственно одобряемые интеллектуальные стратегии, а интерес к деконструкции поддерживался искусственно, благодаря чему не только политические, но даже социальные доктрины, если их заявка на общественное признание получала поддержку общественности, входили не в рациональный дискурс, а начинали активно мифологизироваться (Тихонова, Афанасьев, 2009).
К настоящему времени концепции реидеологизации можно считать вполне преодолевшими концепции деидеологизации (Погорелый, 2022). Глобальное доминирование либеральной идеологии уходит в прошлое (Дузбаев и др., 2024), что, конечно, не мешает ее адептам ожесточенно сопротивляться. Современная логика власти (Невважай, Денисова, 2024) строится на поиске «твердых» идеологических оснований, способных поддержать нормативный порядок и коммуникативный правогенез (Невважай, 2018).
Попытаемся качественно охарактеризовать современное содержание процессов реидеологизации, исходя из того, что нынешний этап развития общества является цифровым, т. е. цифровые технологии обеспечивают воспроизводство социального порядка. Ключевая социальная характеристика цифровой эры – распространение горизонтали в ансамблях социальных связей, интенсифицирующее бурное развитие сетевых социальных отношений вокруг традиционно вертикальных структур социальных институтов, основанных на господстве и подчинении. В таких полифигуративных социальных системах коммуникации сложно осуществлять нисходящее распространение от вышестоящих к нижестоящим, поскольку основное направление любого трафика является горизонтальным, часто равноранговым.
Это нисходящее распространение, как прямая трансляция идеологии, обычно обозначается термином «пропаганда». Деидеологизация предполагает демонтаж пропаганды и устранение государственной идеологии, в результате этих мер государство утрачивает прямой цензурный контроль над СМИ, а медиасфера и публичное пространство (сегодня эти понятия преимущественно совпадают) зачищаются от очевидных идеологических сообщений. Доминирующим содержанием медиасферы, доступным на обыденном, повседневном уровне, становится массовая культура.
Методология исследования реидеологизации в цифровом обществе основывается на междисциплинарном подходе, включающем элементы политической философии, социологии цифровых коммуникаций и медиаисследований. Основные теоретические рамки опираются на концепции реидеологизации, деидеологизации, идеологических макронарративов и стратегий «мягкой силы». Для анализа процессов реидеологизации применяется комплексный методологический подход, включающий контент-анализ цифровых платформ (социальных сетей, новостных агрегаторов, блогов) для выявления ключевых нарративов, их трансформации и распространения среди различных групп населения, а также дискурс-анализ, позволяющий определить стратегии трансформации идеологических смыслов в цифровом пространстве. Субъекты реидеологизации – политики, молодежь и творческая элита – отобраны в силу их активной роли в создании, адаптации и распространении идеологических нарративов.
Реидеологизация предполагает возвращение идеологических смыслов в трафик контента, который осуществляется косвенно, в стратегиях «мягкой силы», через непрямое воздействие. Идеологические макронарративы (обозначим так классические тексты, объективировавшие классические идеологии, от либеральной до коммунистической), которые в XIX – первой половине ХХ в. распространялись через специфические форматы устной политической речи и малые жанры (листовки, агитки и т. п.), актуализируются через гиперссылки и культурные аллюзии. Если в эпоху модерна обращение к макронарративам легитимировало сообщение, которое инициировало само обращение (вспомним традиционное для советской науки, весьма гипертрофированное по современным меркам, цитирование классиков марксизма-ленинизма и решений съездов КПСС), то в цифровом обществе, напротив, отсылка к источнику актуализирует сам источник. Эти отсылки точечно, но регулярно и широкомасштабно встраиваются в масскультный контент при поддержании весьма узкого сегмента идеологической медиасреды, ориентированной на профессионалов – политиков, политтехнологов и исследователей.
Таким образом, ядром механики реидеологизации является пересборка идеологических элементов на платформе медиаповестки, в которой масскультные прецедентные феномены (мемы, фейки и т. п.) укрепляют присутствие идеологических макронарративов в культуре через отсылки к ним. Cубъектные роли могут пересекаться, но они отражают принципиально разный «удельный вес» политического в деятельности субъекта, от максимального к минимальному. В литературе они раскрываются детально, мы остановимся на наиболее типовых характеристиках, важных для нашего исследования.
Политическое участие фиксирует включенность общественности в политические процессы, в этом случае обращение к субъекту политического участия позволяет учитывать минимальные формы вовлечения в политическую жизнь, не достигающих уровня политического процесса и политической системы, поскольку «для этого интересы граждан должны носить сплочённый, коллективный, в определённой степени организованный характер и реализовываться посредством солидарных действий» (Лаврикова, 2019: 75), а также учитывать возможность пересечений разных форм политического участия в деятельности конкретного субъекта. В этом контексте важно помнить, что политическая активность в постиндустриальных обществах тяготеет к неинституциональным формам, таким как социально-когнитивные движения, основанным на сочувствии и частичном разделении идей, проявляющихся в локальных жестах и вкладах. Краудфандинг (Фаст, Джуккаева, 2024) и краудсорсинг привели к тому, что политическая активность чаще опирается на лайки, репосты и донаты, чем на демонстрации и митинги.
Субъекты политической коммуникации отождествляются с коммуникаторами, передающими политические смыслы (Арутюнян и др., 2024), и это определение может включать еще более широкий круг лиц, нежели субъект политического участия, поскольку для субъектности достаточно мыслить и говорить политическое. При этом говорение – ключевая функция политического субъекта сама по себе (Голышева, Останина, 2019), без нее он невозможен.
Политики1, как держатели идеологических нарративов, легитимируют их своей медиаактивностью (либо компрометируют, если сама активность приводит к негативным результатам), молодежь, быстрее и легче осваивающая новые технологии, определяет тренды как ключевая аудитория современной моды, творческая элита вырабатывает инновационные (креативные) формы для идеологических смыслов и выдвигает идеальные модели взаимодействия с властью, используя для них как культурно-политический дискурс, так и формирование исторической памяти. После выполнения этих функций общественность рутинизирует полученные смыслы, включая их в типовые социальные отношения и связи.
Важно, что обозначенные нами группы разнородны с точки зрения наличия у них коллективных идентичностей: молодежь и творческая элита вполне могут воспринимать себя и своих «коллег» как часть воображаемого сообщества, как коллективное «Мы»; политические деятели могут находиться в прямой оппозиции по отношению к чиновникам и экстремально конкурировать друг с другом через радикальную дискредитацию; консолидация всех этих групп в волонтерских движениях и гражданском обществе может принимать различные формы. Кроме того, активность всех этих групп строится в условиях априорной селекции эхо-камер. Как теоретический концепт понятие эхо-камеры вырастает из концепции третьих мест, описывающей коммуникацию журналистов и знаменитостей: формат беседы журналиста и знаменитости из мира культуры и искусства и сама ее атмосфера, пропитанная доверием и непринужденностью, позволяет поместить разговор в так называемое «третье место», в котором располагаются кофейни, бары, книжные магазины и другие площадки неформальных социальных взаимодействий (Ольденбург, 2014).
Видео, размещенные в социальных сетях, комментируются зрителями, что подтверждает характеристику, данную Г. Рейнгольдом (Rheingold, 1993) киберпространству как неофициальному общественному пространству, которое выступает особой инфраструктурой общества. Пользователи не просто являются пассивными реципиентами: то, что они смотрят, становится отправной точкой коммуникации для смотрящих, а эта коммуникация, в свою очередь, связывает их или противопоставляет друг другу. Комментирующие дискуссии могут быть более значимой целью для пользователей, нежели сам исходный контент, поэтому дискуссии, по замечанию М. Капранса, напоминают разговоры в ирландском пабе (Kaprāns, 2016). Ирландский паб – это место, где можно следить за футбольным матчем с участием любимой команды на экране большого телевизора, расслабиться за бокалом пива, активно общаться с друзьями и болельщиками или даже подраться с ними. Субкультура ирландских пабов позиционируется как ценность вечера, в которой индивидам удается совместить все четыре удовольствия.
Симметричность позиций авторов и комментаторов в интернете приводит к тому, что вокруг каналов в социальных сетях формируется определенный круг пользователей, частично (в известной степени) разделяющий и одобряющий позиции авторов канала, от которого зависит и круг приглашенных на беседу знаменитостей. Таким образом, создаются благоприятные условия для появления доминирующих оценок, схем рассуждения в комментариях к видео и создания того, что К. Санстейн назвал «эхо-камерами/комнатами» (Sunstein, 2004). В ходе дискуссий единомышленники формируют все более радикальные позиции, а также демонизируют несогласных с их убеждениями людей.
Как доказали Э. Коллеони, А. Розза и А. Арвидссон, создание эхо-камер отличается тем, что пользователи, чья позиция расходится с позицией большинства, испытывают дискомфорт и отказываются от дальнейших просмотров или дискуссий в комментариях (Colleoni et al., 2014). В дальнейшем активные подписчики YouTube-каналов способны играть роль лидеров общественного мнения и за пределами пространства виртуальных сетей (Karlsen, 2015).
Все акторы обозначенных нами групп разделены по своим эхо-камерам. Трансляция и циркуляция производимых ими реидеологизирующих смыслов идет не прямо, а проходит серии «петель». Если связи между узлами Сети достаточно прочные, смыслы могут просачиваться в различные конфигурации хабов эхо-камер, и тогда они начинают накапливаться в них, буквально оседая в локальных дискурсах словами-маркерами. Но непроницаемые для них конфигурации хабов остаются совершенно чистыми от «чуждой риторики» и устойчивыми к ее проникновению именно благодаря отпугивающему воздействию чуждых маркеров.
Таким образом, подводя итог нашему анализу, необходимо отметить, что коммуникационные структуры цифрового общества обеспечивают возвращение идеологии в массовую культуру, политизацию последней. Это возвращение не предполагает нового витка создания объемных идеологических трактатов (макронарративов), оно строится на актуализации классических идеологий через систему аллюзивной аргументации. Базовыми субъектами реидеологизации становятся три группы, активно производящие цифровой контент: политики, молодежь и творческая элита. Выделение этих групп основано на теоретической схематизации, в цифровой реальности они разнесены по системам эхо-камер, формируемым платформами ключевых социальных сетей. Динамика производимых ими реидеологизирующих смыслов может быть схвачена через метафоры «петель» и переполнения.