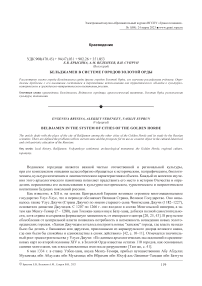Бельджамен в системе городов Золотой орды
Автор: Брысина Евгения Валентиновна, Веденеев Алексей Михайлович, Супрун Василий Иванович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Краеведение
Статья в выпуске: 1 (84), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрено место города Бельджамена среди других городов Золотой Орды, его изучение российскими учёными. Определены проблемы с его нынешним состоянием и перспективы использования как туристического объекта в культурно-историческом и гражданско-патриотическом воспитании россиян.
Краеведение, бельджамен, водянское городище, археологический памятник, золотая орда, региональная культура, топонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/148326059
IDR: 148326059 | УДК: 908(470.45)
Текст научной статьи Бельджамен в системе городов Золотой орды
Водянское городище является важной частью отечественной и региональной культуры, при его комплексном описании целесообразно обращаться к историческим, географическим, биологическим, культурологическим и лингвистическим характеристикам объекта. Каждый из аспектов изучения этого археологического памятника позволяет представить его место в истории Отечества и определить перспективы его использования в культурно-историческом, туристическом и патриотическом воспитании будущих поколений россиян.
Как известно, в XII в. на землях Центральной Евразии возникло огромное многонациональное государство Улуг-Улус, что в переводе обозначает Великая Страна, Великое Государство. Оно называлось также Улус Джучи (Страна Джучи) по имени старшего сына Чингисхана Джучи (1182–1227), основателя династии Джучидов. С 1207 по 1266 г. оно входило в состав Монгольской империи, а затем хан Менгу-Темир (? - 1280), сын Тококан-хана и внук Бату-хана, добился полной самостоятельности, хотя страна и сохраняла формальную зависимость от имперского центра [20, 25, 43]. В результате обособления от центральной власти появилась потребность и возможность возведения новых золотоордынских городов. «Ханам Джучидам хотелось построить новые “ханские” города, где власть не надо было бы делить с баскаками или даругами, присланными из каракорумского дворца великого каана, где они были бы спокойны и единовластны в своих действиях» [42, с. 10-11]. Отмечается значительный рост градостроительства у Улусе Джучи: «По данным археологических исследований и средневековых карт во второй половине XIV в. в Золотой Орде известны остатки 110 городов, как основанных самими монголами, так и восстановленных ими после разрушения» [Там же, с. 41].
6 мая 1334 г. в ставку Узбек-хана, внука Менгу-Темира, прибыл путешественник Абу Абдулах Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Юсуф аль-Лаватиат-Танджи ибн Баттута ибн Хамид аль-Гази ибн аль-Курайш аль-Али. В этом пышном имени содержалось упоминание о многих его предках, о его приверженности исламу, о происхождении из марокканского города Танжера, нисба аль-Лавати свидетельствовала также о том, что он происходит из берберского племени лава-та (илаватен), хотя, вероятно, уже его отец перешёл на арабский язык, поскольку был мусульманским законником, знатоком исламского права – факифом или даже, возможно, шариатским судьёй – кади. Кого-то из его предков звали Баттута, упоминание о нём тоже сохранилось в имени путешественника, в истории он и остался с сокращённым антропонимом Ибн Баттута [23, 37].
Узбек-хан с почётом встретил мусульманского путешественника, пригласил в свой красивый, сияющий на солнце шатёр, который так поразил Ибн Баттуту, что он в своём описании путешествия назвал всю ставку хана j^ Jj^j, Urdu-iZarrin «золотой парадный шатёр». Отметим, что произведение, которое именуется «Путешествие Ибн Баттуты» написано не им, а марокканским придворным историком и писателем Ибн Джуззайем. Он записал воспоминания путешественника и представил их в виде книги, которая была закончена в феврале 1356 г. [13, с. 39].
Называя ставку Узбек-хана Золотой Ордой, Ибн Баттута, возможно, перевёл услышанное им монгольское или татарское словосочетание AltanOrd / AltınUrda «золотой дворец, золотая ставка». Это название было зафиксировано в некоторых источниках. В китайском документе 1237 г. «Записки о чёрных татарах» сообщается о «золотом шатре», который представлял собой большую монгольскую юрту, в которой столбы и порог были обернуты золотом [4, с. 71]. В 1246 г. итальянец Джованни Плано Карпини (1182–1252) вместе с группой монахов побывал в Азии, его в своей кочевой ставке около Каракорума принял каган Монгольской империи Гуюк (1206–1248), которому путешественник вручил письмо папы Иннокентия IV. В своей книге “Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus (История монгалов, именуемых нами татарами)” он сообщает, что для Гуюка был сооружён шатёр, который назывался золотой ордой: он стоял на столбах, покрытых золотыми листами, и был прибит золотыми гвоздями [16, с. 68–70].
На Руси держава татаро-монголов в низовьях Волги и на Северном Кавказе, её центр, ханская ставка именовались просто Ордой. Это слово многократно употребляется в русских летописях. В 1243 г. отмечается: «Поиде в Орду ко царю Батыю князь Ярослав Всеволодичь и прииде из Орды пожало-ванъ» [4, с. 71]. От этого слова было образовано прилагательное ординьскыи и существительное ор-диньць ‘пленник, выкупленный из ордынского плена и поселённый на княжеской земле’ [34, стлб. 706]. Ординцами называли также в конце XIV в. особую категорию населения, на которую возлагался отвоз в Орду татарской дани, а также сохранение, починка и, может быть, производство вещей и предметов, шедших в уплату такой дани [32, с. 152].
Впервые словосочетание Златая Орда было употреблено в 1566 г. в сочинении «Казанская история», когда самого государства уже не существовало. До этого времени во всех русских источниках слово Орда использовалось без прилагательного. С XIX в. термин закрепился в историографии и используется для обозначения либо Улуса Джучи в целом, либо его западной части со столицей в Сарае. Памятник XVII в. Пискаревский летописец сообщает, что «лета 7096-го (1588 г. – Авт.) послал царь и государь в Астрахань города делати каменного Михаила Вельяминова да дияка Дея Губастова, и велел ломатимизгити (мечети. – Авт.) и полаты в Золотой Арде и тем делати город. И зделан город безчис-ленно хорошо» [4, с. 73]. В 1623 г. упоминает о Золотой Орде купец Федот Афанасьевич Котов, проезжающий в Персию мимо развалин Сарая-Берке [17].
Население Золотой Орды вело кочевой и полукочевой образ жизни, предпочитая передвигаться на повозках и лошадях по степи и устраивая шатры на стоянках. Однако золотоордынцами строились и города, где они проживали, прежде всего, в зимнее время. Г.А. Фёдоров-Давыдов отмечает: «Кочевой образ жизни не исключал оседлости некоторой части населения - обычно беднейшего, лишившегося по тем или иным причинам скота. Так было в Дешт-и-Кыпчаке до монголов. Но после образования Золотой Орды и особенно после утверждения сильной централизованной власти кочевники в массовом масштабе переходят к городской оседлости, становятся жителями новых бурно развивающихся городов. К оседлости переходит и богатая, знатная часть номадов» [42, с. 14]. Большинство из этих горо- дов бесследно исчезло, учёные ведут жаркие споры о том, где они находились и как назывались. Столицами в разное время были два города с одинаковым названием Сарай. Это слово было заимствовано тюрками у иранцев от *sarai ‘дворец’ [41/3, с. 560]. До сих пор в большинстве тюркских языков используется эта лексема для обозначения дворца: тур., азерб. saray, узб. saroy, тат., казах., кирг. сарай, башк. hарай. В Турции словом Saray называется дом правительства. У русских и украинцев это заимствованное у тюрок слово было перенесено на хозяйственную постройку [5, с. 1149].
Большинство историков полагает, что первая столица Сарай-Бату, или Сарай ал-Махруса ‘Дворец Богохранимый’ находился примерно в 130 км севернее Астрахани в урочище Джигита [6, с. 283]. Ныне около села Селитренного Харабалинского района Астраханской области находится Музейный археологический комплекс «Селитренное городище». Рядом в 2011 г. проходили съёмки художественного фильма «Орда» о святителе Алексии (режиссёр Андрей Александрович Прошкин). На берегу Ахтубы был возведен целый комплекс строений, в котором была сделана попытка воссоздать облик средневековой столицы Золотой Орды: соорудили ханский дворец, дома-мазанки ремесленников на узких извилистых улочках и т. д. По договоренности между руководством Астраханской области и продюсерами кинофильма после съемок декорации средневекового города разобраны не были. Ныне на базе этих декораций создан новый туристический центр Астраханской области «Сарай-Бату – столица Золотой Орды». Так культурно-туристическая реальность победила сомнения учёных о том, действительно ли в этих местах находилась первая золотоордынская столица: теперь всем приезжающим сюда туристам рассказывают о Сарае-Бату. Съёмки фильма о русском святом были обоснованы тем фактом, что здесь в 1261 г. был учреждён центр Сарайской епархии, в которой в августе 1357 г. побывал святитель Алексий, по преданию, исцеливший ханшу Тайдулу от болезни глаз [39]. Город был основан ханом Батыем (Бату) в начале 1250-х годов, первые монеты, здесь выпущенные, относятся к 1282 г. при хане Туда-Менгу.
Второй столицей стал Сарай-Берке, или Сарай ал-Джедид, построенный около 1260 г. пятым ханом Улуса Джучи, сыном Джучи и внуком Чингисхана Берке (1209–1266) и потому названный его именем, но только в начале XIV в. при хане Узбеке (1282-1341) он обрёл столичные права. Предполагается, что город находился рядом с нынешним селом Царевом Ленинского района Волгоградской области. В последнее время высказывается предположение, что здесь находился другой крупный золотоордынский город Гюлистан [14, с. 24], а Сарай-Бату и Сарай-Берке - название одного и того же города в разные периоды его истории. Отметим, однако, что топоним Царев возник на базе отмеченного на многих старинных картах урочища Царевы Пады ‘царские развалины’, а царями в Древней Руси именовали ханов Золотой Орды. К сожалению, от древнего величественного города почти ничего не осталось. Из его кирпичей были построены здания в Астрахани, Царицыне, а позже и в окрестных сёлах.
Ещё хуже обстоят дела с другим золотоордынским городом, от которого не осталось и названия. На территории Волгограда находится археологический памятник Мечётное городище. В 1769 г. Иоганн Петер Фальк (1725-1774), находящийся в Царицыне, отмечал здесь «едва приметные развалины большого татарского города. Видны ещё следы каменной стены, а на изрытой площади фундаменты зданий» [40]. На старинных картах в этих местах отмечается поселение Meshet ‘Мечеть’. Видимо, это и было названием города. Впрочем, эта надпись могла лишь свидетельствовать о наличии в поселении важной мечети. Некоторые исследователи предполагают, что здесь находился золотоордынский город Бельджамен [14, с. 22]. По мнению профессора Новороссийского университета (Одесса) Ф.К. Бруна, этот город необходимо отождествить с топонимом Тартанлы, нанесённым на многие средневековые карты [7, с. 173–174]. На карте братьев Франческо и Доминико Пицигани 1367 г. он расположен южнее переволоки. П.С. Паллас, побывавший в этих местах, обнаруживает «явные следы большого каменного строения, которое было караван-сараем или гостиным двором» [29, с. 204].
Член Саратовской учёной архивной комиссии З.М. Енгалычев предположил, что топоним Тартан-лы производит от искажённых татарских слов тартарле ‘узкое место, ограниченное валом или рвом’ или же от чортанлы ‘щучья (река)’ [12, с. 157]. У Ф.К. Бруна приведён в скобках вариант топонима
Чертанлей со знаком вопроса [7, с. 174]. В пользу второй версии говорит использование в большинстве современных тюркских языков названия щуки: тат. чуртан, башк. суртан, казах., кирг. шортан, чуваш. ҫӑрттан, якут. сордоҥ. Отметим, что неподалёку от этих мест находится протока Щучий Проран, отделяющая остров Голодный от острова Сарпинского.
Память о топониме Мечеть сохранили две протекающие в этих местах речки – Сухая (Верхняя) и Мокрая (Нижняя) Мечётки, а также существовавшая уже в 1739 г. деревня Мечётная на берегу Волги. В ней находился зверинец, откуда дикие козы, кабаны, куропатки и прочая живность отправлялись в Москву. Рядом располагался сад, принадлежавший коменданту Царицына полковнику Ивану Ефремовичу Цыплетеву. Здесь был построен загородный дом, где любила проводить время семья коменданта. Иван Еремеевич в 1760-е гг. заложил первый в Царицыне виноградник. Побывавший в этих местах П.С. Паллас отметил, что спустя 4 года после высадки винограда было собрано около 20 пудов виноградных кистей хорошего качества [29, с. 203].
В 1769 г. И.Е. Цыплетев и прапорщик Саврасов занялись выращиванием арбузов. П.С. Пал-лас записал в своей книге: «На возвышениях, через которые к Нижней Мечётке дорога простирается, разведены на открытой степи огороды арбузные, или бахчи с арбузами без всякого присмотру, где сии плоды без поливания довольно велики и вкусны бывают. Царицынские арбузы превосходнее почти астраханских <...>. Все сии плоды находятся здесь в великом множестве, потому что ничего более не требуют, как только чтобы степь сохою ровно была взорана и плод при времени созревания оного от птиц и воров охранен был» [Там же, с. 202-203]. Комендант набрал специальную команду «выборщиков», которые не только охраняли бахчи, но и определяли степень спелости плодов. В столицу отправляли арбузы только с зелёной коркой, плоды другого цвета не выдерживали долгой дороги. В первый год в Москву отправили 150 арбузов. Распаханная земля, разумеется, повредила культурный слой Мечётного городища.
Супруга царицынского коменданта Луиза Ивановна, немка, была дамой не менее предприимчивой, чем сам комендант. Она регулярно посылала своих крестьян в разрушенные золотоордынские города, чтобы они собирали кирпичи из зданий и привозили хозяйке, которая их потом продавала. В том, что от величественных татарских городов почти ничего не осталось, есть вина и госпожи Цыплетевой.
Когда правительственный сенат принял решение переселить с Волги казаков на вновь открытую Моздокскую линию на Кавказе, некоторые из жителей по разным причинам не смогли покинуть свои селения и отправиться на юг, но должны были покинуть станицы. Предприимчивая Луиза Ивановна предложила им перебраться в своё сельцо Мечётное. 25 июля 1777 г. она заключила с каждым из переселенцев договор, по которому новые жители Мечётного становились крепостными, но они должны были сами платить казённые подати, а хозяйка обязывалась по их первой просьбе давать им отпуск. После кончины Луизы Ивановны 56 бывших волжских казаков по завещанию перешли её дочерям.
Иван Еремеевич скончался в 1797 г., Луиза Ивановна - в 1813-м. Деревня Мечётная в 1847 г. значится за помещиком Иваном Николаевичем Страховым. Возможно, он был каким-то образом связан с Цыплетевыми, поскольку в деревне Терновке Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, откуда И.Н. Страхов переселил 99 ревизских душ в свою новую деревню Спартанку, значился некий помещик Цыплятев [15]. Обратим внимание на название новой деревни. Во многих работах краеведов и даже в книгах волгоградских писателей, а теперь особенно в Интернете существует версия, что название Спартанка было переделано из Портяновки, поскольку здесь якобы бурлаки сушили свои портянки. При этом делается ссылка на словарь А.Н. Минха. Однако в нём чётко указано: «Название Спартанка не имеет местного значения и дано по воле помещика» [24/3, с. 968]. Из этого следует, что упомянутый на военно-топографической карте генерального штаба 1889 г. топоним Протянка является отражением народного преобразования искусственного наименования деревни, данного начитанным помещиком в честь греческой Спарты. Искусственные названия, данные помещиками, нередки на карте России. К югу от Царицына астраханский губернатор Никита Афанасьевич Бекетов (1729–1794) в 1763 г. выстроил себе имение, которое назвал Отрада [24/4, с. 1349-1351]. Всего такой топоним носят 30 селений в России, 2 на Украине, а ещё три Старых Отрады и одна Новая. Отличие многочисленных
Отрад, Привольных, Радостных, Благодатных и прочих пожелательно-обнадёживающих топонимов от Спартанки в том, что И.Н. Страхов, опираясь на свою эрудицию, создал уникальное название.
В 1860 г. в деревне Мечётной значилось 26 дворов. Вскоре её жители переселились в село Рынок, а их дома, построенные из камней и кирпичей зданий Мечётного городища, были разобраны, бутовые камни весной 1915 г. были перевезены в Царицын на строительство Орудийного завода. Так золотоордынский строительный материал в третий раз обрёл своё предназначениев новых зданиях. Село Рынок получило своё название от обозначения в народной речи песчаной отмели или мыса при слиянии двух рек [33, с. 312], а село как раз находилось в том месте, где в Волгу впадала Сухая Мечёт-ка. С нарицательным словом ры՛нок , заимствованным из немецкого языка через польское посредничество [41/3, с. 530], этот топоним никак не связан.
На Мечётном городище 25–26 апреля 1914 г. за счёт собственных средств проводил раскопки саратовский губернатор князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов (1868–1927), которого Ф.В. Баллод назвал «злым гением мечетинских памятников», поскольку его небрежная работа мало что дала для науки, но серьёзно нарушила культурный слой [2, с. 16]. Отчёт археолога-любителя о раскопках был опубликован в Трудах Саратовской учёной архивной комиссии. В нём отмечалось, что было обнаружено свыше 50 зданий, при этом «здание, от которого ещё в прошлом столетии видны были части каменных стен, в настоящее время превратилось в холм мусора» [44, c. 161–162].
Франц Владимирович Баллод (1882-1947) проводил раскопки на Мечётном городище летом 1920 г. 19 августа экспедиция в составе руководителя, декана историко-филологического факультета Саратовского университета Ф.В. Баллода, саратовского краеведа, бывшего хранителя музея Саратовской учёной архивной комиссии Богдана Викторовича Зайковского (1878-1933/1935) и 16 студентов университета прибыла в село Рынок, поселилась в местной школе и в тот же день приступила к обследованию некрополя Мечётного городища. Для помощи археологам ежедневно царицынскими властями выделялось 10-15 рабочих. 4 сентября, доложив результаты работы Царицынскому губот-наробу, экспедиция отправилась в Саратов. Ф.В. Баллод отмечал доброжелательность жителей Рынка: в сентябре, когда «ввиду хлебного кризиса в Царицыне экспедиция не получала причитающегося ей пайка», местные крестьяне приходили в школе с щедрыми дарами [2, с. 9–10]. Однако хлебный кризис отразился на результатах работы, фактически она была свёрнута: «Кроме того, к сожалению, работы пришлось прекратить, так как наступивший в Царицыне хлебный кризис слишком тяжело отзывался и на нас, а особенно на рабочих, не один раз выражавших по этому поводу своё недовольство» [Там же, с. 34].
Однако в целом было сделано немало. Учёный так описывает своё впечатление от посещения городища: «Не хотелось уходить с плато, и мы с Б.В. Зайковским и сопровождающими нас студентами несколько часов просидели на “минарете” мечети, слушая старинные татарские легенды, неиссякаемым источником которых оказался Б.В. Зайковский. Это были лучшие, прекрасные часы совместного отдыха после утомительного трудового дня» [Там же, с. 18]. Во время раскопок были обнаружены монеты ханов Золотой Орды: две медные Узбека 1313 и 1331 гг., четыре Джанибека, чеканенные в Новом Сарае в 1352–1353 гг., одна серебряная Бердибека, чеканенная в Гюлистане в 1359 г. и одна медная неопределённой даты. Ф.В. Баллод отмечал, что в 1912-1915 гг. здесь же была найдены серебряные и медные монеты Менгу-Темира 1277–1280 гг. чеканки, Туда-Менгу 1281–1282 гг., Токтогу-Эллейдина 1291-1293 гг., Узбека 1313 г. и Тохтамыша 1388 г. Всё это свидетельствует об интенсивной экономической жизни в городе.
Разорение развалин этого города осуществлялось постепенно, но постоянно. 5 сентября 1636 г. мимо него проплывал немецкий путешественник, учёный и дипломат (секретарь посольства шлезвиг-гол-штинского герцога Фридриха III к персидскому шаху) Адам Олеарий (Olearius<Ölschläger, 1599–1671), который увидел с борта судна развалины города, «построенного страшным и свирепым Тамерланом». Где-то на карте он увидел запись Zareff-gorod, которым обозначались развалины Сарая-Берке (Олеа-рий переводит: KönigsStadt), и решил, что она относится к увиденному им, причём предположил, что так назывался не весь город, а только «дом радости, удовольствия» (Lusthaus) [46, P. 366]. Адам Олеарий пишет: «Русские большую часть камней сих перевезли в Астрахань и выстроили из них главным образом городскую стену, а затем церкви, монастырь и другие здания». Путешественник замечает на Волге нагруженные этим камнем суда, плывущие в Астрахань [28]. Эта же информация встречается у других наблюдателей, побывавших в разное время на Нижней Волге.
Много споров в научном мире вызывает идентификация золотоордынского города Бельджаме-на, известного по многим источникам. Большинство учёных склоняются к тому, что он располагался на берегу Волги, где ныне находится Водянское городище [21, с. 74].
В январской книжке Журнала Министерства внутренних дел за 1838 г. была опубликована без подписи короткая заметка «Водянское городище», в которой сообщалось, что на впадающей в Волгу речке Водяной видны остатки каменных зданий какого-то татарского селения или небольшого городка, где находят татарские монеты, кольца и пр. [9, с. 5–6]. Видимо, это была первая фиксация закрепившегося затем в научном мире археологического топонима Водянское городище, образованного от гидронима. Речек Водяных, Водянок и т. п. на территории восточных славян большое количество. Они свидетельствуют о наличии в реке постоянного водотока в отличие от пересыхающих. Только на территории Волгоградской области отмечено четыре речки и балки Водяных, три Водянки, по одной Водянской и Водиной. Упомянутая в заметке речка Водяная ныне именуются Водянкой [19, с. 83–84].
В 1884 г., выступая на VI Археологическом съезде в Одессе, известный русский медик-педиатр, профессор, заведующий кафедрой детских болезней Казанского университета и при этом историк-энтузиаст, нумизмат Николай Александрович Толмачёв (1823-1901), рассказал, как он во второй половине сентября 1854 г. побывал в Дубовке и посетил городище, где местный сторож подарил ему 96 подобранных здесь старинных татарских монет, которые Николай Александрович передал «для определения» знатоку, страстному любителю нумизматики, секретарю правления и казначею Казанского университета В.К. Савельеву (1810–1882). Только 58 из этих монет Владимир Константинович смог идентифицировать, они были чеканены в Сарае, Новом Сарае и Гюлистане с 1321 по 1360 г.
В своем докладе Н.А. Толмачёв предположил, ссылаясь на текст арабского историка и географа XIV в. Абульфеды (Абу-л-Фида), что Водянское городище является развалинами Бельджамена. Он цитирует отрывок из сочинения араба (курдского происхождения), в котором упоминается деревня Бельджамен, а также приводит транскрипции этого топонима на немецкий, латинский и французский языки из текстов переводов Х.Д. Френа, И.Я. Рейске и Ж.Т. Рено: Beldschemen, Balĝaman, Baldjaman [Толмачёв]. На карте братьев Ф. и Д. Пицигани крупный (со знаменем с изображением тамги над ним: так, видимо, обозначаются города с дворцами ханов) город Berciman перенесён на Дон (flum. tanay) рядом с переволокой (pasagium), около него отмечено слово bazar.
В 1921 г. экспедиция Ф.В. Баллода дважды обследовала Водянское городище. В этот раз в поездку отправилось всего 7 человек: Ф.Б. Баллод, Б.В. Зайковский и 5 студентов. Учёный записывает: «Холера, тиф сыпной и брюшной, голод, неожиданно наступившие холода: вот та обстановка, при которой приходилось работать, и я должен сознаться, что по возвращении 15 сентября в Саратов у меня невольно вырвался вздох облегчения, что ответственность за здоровье и жизнь пяти студентов, поехавших с нами, с меня снята» [2, с. 11].
С горечью Ф.В. Баллод сообщает о хищнических раскопках на Водянском городище в 1913 г. Владелец постоялого двора в Дубовке Артемьев организовал добычу костей для костемольного завода и кирпича для построек в городе. За один месяц с территории городища было вывезено 16 тысяч пудов костей (265 тонн), 92 воза кирпича, 100 пудов медного лома, 15 пудов железа, 11 пудов свинца. Ранее разграблением городища занимались дубовские крестьяне, хотя, вероятно, не в таких масштабах. В Дубовку устремились скупщики древностей, которые за бесценок («за две конфеты с махорками», т. е. с кисточками, украшениями. - авт.) получали статуэтки, монеты, предметы посуды. Сам Артемьев продавал глиняные статуэтки и посуду с городища «с рисунками всадников, мужчин и женщин» по 60 копеек за штуку [Там же, с. 37]. Трудно оценить потери для науки из-за действий всего лишь одного хищника!
Ф.В. Баллод сообщает, что местный пристав Иванов раскопал одну могилу на территории сада Челюкановых, в нём было обнаружено погребение в лодке, около костяка лежали «совершенно проржавленный меч, железное огниво и железная пряжка». Историк-медиевист и археолог Владимир Яковлевич Петрухин утверждает: «Этническая принадлежность погребённых в ладье сейчас обще-признана – этот обряд несомненно скандинавский <…>» [30, с. 153].
Экспедиция Ф.В. Баллода нашла во время посещения Водянского городища более 200 черепков и обломков изразцов, обломок металлического зеркала, замочек в виде лошадки, 13 монет, глиняный амулет с надписями «Нет Бога кроме Бога» и «Мухамед – посланник Бога». Летом 1912 г. Саратовской учёной архивной комиссией у кого-то из дубовских жителей был приобретён клад из 200 монет, из них 2 медных и 198 серебряных. Монеты были изготовлены с 717 по 764 гг. гид-жры (1318-1363 гг.), их чеканили при ханах Золотой Орды Узбеке, Джанибеке, Бердибеке, Кулне, На-врузе, Хидре, Кильдибеке, Мюриде и Абдуллахе [17, с. 180]. На Водянском городище были также откопаны греческие торговые пломбы V в. до Р. Х., античные расписные вазы и терракоты [2, с. 129]. Ф.Б. Баллод завершает свой обзор археологического памятника: «Водянское городище представляет совершенно исключительный интерес и заслуживает особенно внимательного изучения и обследования путем раскопок» [Там же, с. 43].
Возникает вопрос об этимологии названия Бельджамен . Один из ведущих исследователей Золотой Орды и русско-ордынских отношений XIII-XV вв. Вадим Леонидович Егоров ссылается на Нияза Абдулхаковиач Мажитова (1933–2015), который якобы предположил, что этот топоним переводится как «город дубов» [10, с. 109]. Однако в книге российского археолога, профессора Башкирского государственного университета речь идёт не о Бельджамене, а о предполагаемом названии Иман-Кала ‘Дубовый город’ городища Уфа Пили расположенного рядом с ним другого раннесредневекового городища; поселение существовало до постройки в 1574 г. русской крепости-города Уфы [22, с. 142]. Эта этимология В.Л. Егорова стала кочевать по книгам, статьям, а теперь и сайтам Интернета. Ни в тюркских, ни в арабском, ни в персидском языках нет созвучного слова для обозначения понятия «город»: тур. şehir, тат. шәһәр, башк. ҡала, чуваш. хула, казах. қала, кирг. шаар, азерб. şәhәr, араб. ةنيدملا [al-madīna], перс. رهش [shahr]. Однако вторая часть топонима похожа на название дуба в тюркских языках: тат., башк. имән, чуваш. юман, казах. емен, кирг. эмен. Этимология ойконима Бельджамен нуждается в дополнительном исследовании.
Высказывается также предположение, что название Дубовки является продолжением, переводом, калькой этого древнего топонима. На территории Волгоградской области сохранилось несколько топонимов тюркского происхождения, это гидронимы Кумылга, Бузулук, Ахтуба, Арчеда и др. [35]. Возможно, что некоторые Песчанки, Каменки, Осиновки, Сосновки и пр. являются переводом предшествующих тюркских названий. Однако и пришедшие на берега этих рек русские, глядя на песчаное или каменистое дно, на растущие по берегам деревья, могли создать соответствующие гидронимы.
Что касается города Дубовки, то его название возникло по типичной для славян отгидронимной модели: название реки > название города. Таких примеров много в России и сопредельных славянских странах. Гидронимы гораздо древнее ойконимов, поселяясь на берегу того или иного водоёма, жители для своего населённого пункта выбирают предшествующее наименование. Гидроним Дубовка упоминается в искажённом виде в дневнике 1-го Азовского похода Петра I 1695 г. [31, с. 12]. Кроме того, на территории области имеется ещё 3 речки Дубовки, 10 Дубовых рек и балок, одна Дубовочка, три Дубовых оврага и пруда [19, с. 124–127]. На территории проживания славян имеется 12 рек с названием Дубовка и бесчисленное количество населённых пунктов с таким же ойконимом [8, с. 121].
Вызывает большой интерес топоним Бездеж. Ф.К. Брун отождествляет его с bachanti на карте Ф. и Д. Пицигани [7, с. 174]. В.Л. Егоров утверждает, что «именно Бельджамен русские и называли Без-дежем, что косвенно подтверждает анализ различных летописных данных» [10, с. 109–110]. Известно, что на Водянском городище выделяется русский посёлок [1, 26, 27]. В.Л. Егоров и М.Д. Полубояринова обнаружили во время раскопок, что в самом начале существования города русский квартал занимал всю прибрежную часть городища, вытянувшись вдоль Волги. В раскопах на кладбище найдены черепа славянского типа, большое количество русской керамики [11]. О Бездеже упоминают русские летописи XIV в.: в 1319 г. тело князя Михаила Тверского, убитого по приказанию Узбек-хана, привезли в Без-деж. В 1346 г. летопись сообщает о «чёрной смерти» - чуме: «бысть казнь от Бога на люди над восточной страной, в Орде и Орнате и Сарае и в Бездеже» [3, с. 283–284]. В этом же году князь холмский Всеволод Александрович, возвращаясь из Орды в Тверь, встретился в Бездеже с едущим в Орду своим дядей, князем кашинским Василием Михайловичем. В 1361 г. ордынский князь «Тогай, иже от Безде-жа, той убоНаручад и всю ту страну взял и там о себе пребываше» [1].
Этимологический анализ топонима позволяет утверждать, что Бездеж образован с помощью притяжательного суффикса *-jь от древнего славянского имени Бездед (*dj> ж). Антропоним, вероятно, давался ребёнку, родившемуся в семье после кончины основателя рода, или безродному подкидышу, сироте. Местечко Бездеж было в Гродненской губернии (ныне агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области). В Чехии имеется готический замок Бездез (Bezdez) с названием того же происхождения (в чешском языке *dj> z). С другими суффиксами образованы от этого антропонима топонимы Бездедовичи (Витебская область), Бездедово (Московская область) [45, с. 80, 98], что говорит о популярности этого имени у славян. Может быть, конечно, что русские приспособили к своему языку какое-то близкозвучное тюркское название, как, например, гидроним Сарысу превратили в Царицу , но в источниках не обнаруживается никакой предшествующий топоним, похожий по звучанию на Без-деж , а слово Бельджамен преобразовать в Бездеж затруднительно.
Ф.В. Баллод определяет Бельджамен как явно большой и цветущий торговый центр в Золотой Орде. Он называет его, наряду с Увеком и Мечётным городищем, «приволжскими Помпеями» [2, с. 131]. Современные исследователи констатируют, что прибрежная часть средневекового города полностью уничтожена, а на значительной части территории культурные напластования срезаны почти до уровня материка, остальная площадь была пропахана на глубину 25 см [36, с. 58]. И всё же, несмотря на громадные потери в археологическом наследии, почти полной ликвидации памятника, существует необходимость в пробуждении интереса к нему, в создании в общественном сознании понимания необходимости его изучения и бережного культурного освоения. Понять роль этого места в истории региона, страны и человечества, его этнокультурные связи и закономерности возникновения и существования, современное положение на земной поверхности и будущее развитие можно лишь при комплексном изучении, при учёте всех характеристик археологического памятника. Постепенно исчезающее Водян-ское городище, свидетельствующее о важных событиях в истории Нижнего Поволжья и сопредельных территорий, о межкультурных и межязыковых связях проживающих здесь народов, не исчерпало своего культурно-просветительского и туристического потенциала, нуждается в научной и общественной поддержке, в использовании его в патриотической работе с новыми поколениями россиян.
Список литературы Бельджамен в системе городов Золотой орды
- Балабанова М.А. Палеодемографическая характеристика Водянского городища эпохи Золотой Орды (по материалам христианизированной части кладбища) // Нижневолжский археологический вестник / отв. ред. А.С. Скрипкин. Вып. 14. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. С. 102–111.
- Баллод Ф.В. Приволжские «Помпеи»: Опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы). М.; Гос. изд-во; Петроград: Мосполиграф, 1923.
- Бездеж // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. III. СПб.: Семеновская типолитогр. (И.А. Ефрона), 1891. С. 283–284.
- Богатова Г.А. Золотая Орда // Русская речь. 1970. № 1. С. 70–77.
- Большой толковый словарь русского языка / сост. и глав. ред. С.А. Кузнецов. CПб.: Норинт, 1998.
- Брун Ф.К. О резиденции ханов Золотой Орды до времен ДжанибекаI // Он же. Черноморье: Сб. исследований по исторической географии южной России (1852–1877). Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1880. С. 271–285.
- Брун Ф.К. Перипл Каспийского мора на картах XIV стол. // Он же. Черноморье: Сб. исследований по исторической географии южной России (1852–1877). Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1880. С. 159–188.
- Брысина Е.В., Веденеев А.М., Супрун В.И. Водянское городище как концепт: о комплексном изучении археологического памятника // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2022. № 7(170). С. 119–125.
- Водянское Городище // Журнал Министерства внутренних дел. 1838. Ч. XXVII. № 1. Смесь. С. 5–6.
- Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М.: Наука, 1985.
- Егоров В.Л., Полубояринова М.Д. Археологические исследования Водянского городища в 1967–1971 гг. // Города Поволжья в Средние века. Москва: Наука, 1974. С. 39–79.
- Зайковский Б.В. Исторический очерк древнего городища на правом берегу Волги в 17 верстах выше Царицына // Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Вып. 32-й. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1915. С. 153–158.
- Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М.: Наука, Гл. ред. вост. литер., 1988.
- Ильина О.А. Историческая топография и локализация золотоордынских городов Нижнего Поволжья: автореф. дисc. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2006.
- История села Терновка со времени основания до середины XIX века // Наша история. [Электронный ресурс]. URL: https://nashahistory.ru/materials/istoriya-sela-ternovka-so-vremeni-osnovaniya-do-serediny-xix-veka (дата обращения: 11.01.2023).
- [Карпини И.] Иоанна де ПланоКарпини, архиепископа Антиварийского, история Монгалов, именуемых нами Татарами // Путешествие в восточные страны ПланоКарпини и Рубрука / Ред., вступ. ст. и коммент. Н.П. Шастиной. М.: ГИГЛ, 1957. С. 23–86.
- [Котов Ф.А.]. Хожение купца Федота Котова в Персию. М.: Изд-во вост. литер., 1958.
- Кротков А.А. Клад Джучидских монет с Водянского городища // Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Вып. 30. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1913. C. 179–185.
- Крюкова И.В., Супрун В.И. Реки и водоёмы Волгоградской области: гидронимический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2009.
- Кульпин Э.С. Золотая Орда: Проблемы генезиса Российского государства. М.: Московский лицей, 1998.
- Кульпин Э.С. Золотая Орда: судьбы поколений. М.: Ин-т востоковед. РАН, 2006. (Сер. «Социоестественная история» / под ред. Э.С. Кульпина. Вып. XXVIII).
- Мажитов Н.А. Южный Урал в VII–XIV вв. М.: Наука, 1977.
- Милославский Г.В. Ибн Баттута. М.: Мысль, 1974.
- Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Т. 1: Южные уезды: Камышинский и Царицынский. Вып. 3 / сост. А.Н. Минх; печ. под наблюд. С.А. Щеглова. Саратов: Тип. губ. земства, 1901. С. 557–1091 + 2 с. Вып. 4. Аткарск: Аткар. тип., 1902. С. 1093–1409 + 35 с. (сплошная пагинация тома).
- Мыськов Е.П. Политическая история Золотой Орды (1236–1313 гг.). Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003.
- Мыськов Е.П. Русский поселок и русский квартал Водянского городища // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 1. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. С. 250–261.
- Мыськов Е.П. Русское кладбище Водянского городища // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 4. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. С. 123–135.
- Олеарий А. Описание путешествия в Московию / пер. с нем. А.М. Ловягина. М.: Российские семена, 1996.
- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Ч. 3. Половина вторая. СПб.: Тип. ИАН, 1788.
- Петрухин В.Я. Погребения знати эпохи викингов (по данным археологии и литературных памятников) // Скандинавский сборник. Вып. 21. Таллин: ЭэстиРаамат, 1976. С. 153–171.
- Рябов С.И., Самойлов Г.П., Супрун В.И. Пётр I в Царицыне и на Среднем Дону. Волгоград: Перемена, 1994.
- Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): в 10 т. / гл. ред. И.С. Улуханов. Т. 6. М.: Рус. яз., 2000.
- Словарь русских народных говоров. Т. 35. СПб.: Наука, 2001.
- Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 2. Ч. 1. Репринт. изд-е. М.: Книга, 1989.
- Супрун В.И. Тюркские онимы в Волгоградской области // Тюркская ономастика: от истоков до современности: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Казань: Изд-во Казан. (Приволж.) федер. ун-та, 2018. С. 233–238.
- Сухорукова Е.П., Кияшко А.В., Лапшин А.С. [и др.] История изучения Водянского городища // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2010. № 8(52). С. 57–61.
- Тимофеев И.В. Ибн Баттута. М.: Молодая гвардия, 1983.
- Толмачёв Н.А. О Водянском городище в Саратовской губернии // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). Т. IV. Одесса: Тип. А. Шульце, 1889. С. 91–95.
- Турилов А.А., Седова Р.А. Алексий // Православная энциклопедия. Т. I. М.: Правосл. энцикл., 2000. С. 637–648.
- Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька / пер. с нем. П. Петрова. СПб.: Тип. Имп. АН, 1824.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. 2-е изд., стер. М., 1986–1987.
- Фёдоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М.: Изд-во МГУ, 1994.
- Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М.: Изд-во МГУ, 1973.
- [Ширинский-Шихматов А.А.] Отчет об археологических раскопках князя Андрей Александровича Ширинского-Шихматова // Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Вып. 32-й. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1915. С. 159–163.
- Шрамченко А.П. Справочная книжка Московской губернии. М.: Губ. тип., 1890.
- Olearius A. Ausführliche Beschreibung der kundbaren Reyss nach Muscow und Persien. Schlezwig: Fürstl. Druckerey durch J. Golwein, MDCLXIII. 768 S. + 34 S. Register.