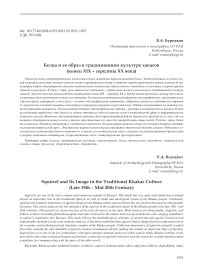Белка и ее образ в традиционной культуре хакасов (конец XIX - середина XX века)
Автор: Бурнаков В.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.
Бесплатный доступ
Одним из самых распространенных и многочисленных животных Евразии является белка. Этот небольшой, но очень ловкий и юркий лесной зверь занимал важное место в традиционном быту и обрядово-мировоззренческой системе хакасов. В этнографии вопрос утилитарной и духовно-символической значимости образа данного животного в культуре и мировоззрении хакасов не раскрыт. В связи с этим, цель данного исследования определение места и роли белки в традиционной культуре хакасов. Хронологические рамки работы охватывают конец XIXсередину XX в. Выбор таких временных границ обусловлен состоянием базы источников по теме исследования. Основными источниками выступают этнографические, лингвистические и фольклорные материалы, в том числе полевые этнографические материалы, собранные самим исследователем, отрывки из героических сказаний (алыптыг нымахтар) в авторском переводе на русский язык. Работа основывается на методологическом принципе историзма. Используются историко-этнографические методы реликта и семантического анализа. В ходе исследования определено, что белке и ее образу отводилось одно из важных мест в хозяйственной сфере и мифоритуальном комплексе хакасов. Выявлено, что утилитарное значение этого представителя фауны определено, прежде всего, тем, что он является обладателем ценного меха, а также пригодностью его мяса для употребления в пищу людей. В связи с этим, белка была важным объектом добывающего охотничьего промысла. Беличьи шкуры являлись одним из ключевых товаров, имевших высокий покупательский спрос. Эта пушнина широко использовалась при шитье этнической одежды хакасов. Отдельные зоологические особенности данного животного, а также его неотъемлемая связь с деревом, послужили причиной причисления к разряду животных-медиаторов, осуществляющих связь с потусторонним пространством.
Хакасы, традиционная культура, мировоззрение, белка, промысловое животное, национальный костюм, пища, фольклор, оборотничество, обрядность
Короткий адрес: https://sciup.org/145146643
IDR: 145146643 | УДК: 397+398 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1021-1027
Текст научной статьи Белка и ее образ в традиционной культуре хакасов (конец XIX - середина XX века)
Животным отводится важное ме сто в традиционной культуре многих народов. Анималистические образы широко представлены как в ее материальной, так и духовной областях. Они часто фигурируют в народном изобразительном искусстве, мифах, ритуалах и пр. В религиозно-мифологических воззрениях представители мира фауны исполняют совершенно различные функции. Наиболее распространенными из них являются такие, как: создатели мира либо их помощники, тотемы, олицетворения всевозможных божеств и духов, ездовые животные, медиаторы и т.д. В культуре хакасов одним из диких животных, имевших большое значение в промысловой и иной деятельности, и чей образ был запечатлен в фольклоре, является белка (хак. тиин ). Следует отметить, что в хакасской этнографии и фольклористике белка и ее образ не становились предметом специального исследования.
Белка и ее значение в быту и утилитарной деятельности
Географические и природно-климатические условия Южной Сибири определили богатство и разнообразие ее флоры и фауны. Одним из самых распространенных представителей животного мира этого региона является белка. В культуре хакасов, как и других народов Саяно-Алтая, белка относилась к категории пушных зверей, имевших важное промысловое значение. Как известно, из-за красоты и других привлекательных потребительских свойств сибирскую пушнину образно называли «мягким золотом». Оригинальный и красивый беличий мех, а также изделия из него пользовались большим спросом, причем не только у хакасов, но и у других народов. Отметим и то, что в прошлом шкурки этих пушных зверей – тиин / тиин теерiзi нередко выполняли функцию эквивалента денег [Бутанаев, 1999, с. 141]. Они часто становились излюбленным предметом обычной и меновой торговли, выступали в качестве объекта дарообмена. Добавим и то, что в минувших столетиях беличьи шкурки наряду с другой пушниной были непременным атрибутом ясака и обязательной платы в царскую казну и пр.
В сибирской тайге пушной промысел, как правило, включал добычу соболя и белки, охота на которых часто совмещалась. В середине XIX в. этнограф Н.С. Щукин, изучая охотничий промысел хакасов, обратил внимание на то, какое важное место в нем отводится добыче указанных зверей. В связи с чем, исследователь писал, что «главнейшие статьи звериных промыслов – соболь и белка. Способ ловли тот же, что и у русских крестьян. В хороший год на часть инородцев достается соболей около тысячи, белки до 50.000. В сбыте шкурок нет затруднения; купцы и приказчики их разъезжают по улусам и перебивают один у другого товар» [Щукин, 1856, с. 43]. По сообщению учено- го, цена на соболя в то время варьировала от 4 до 5 рублей серебром, а белки – 7–8 копеек серебром [Там же, с. 29]. Стабильно высокий спрос на мех указанных зверей устойчиво сохранялся и к концу XIX в. В материалах А.А. Кропоткина обнаруживаются интересные сведения об этом. Заметим, что представленные исследователем данные, касающиеся объемов добычи обозначенной пушнины, возможно, несколько завышены. Вместе с тем они однозначно свидетельствуют о неиссякаемом спросе на рынке беличьего меха. На это может указывать также и возросшая цена на этот товар. Приведем соответствующий материал: «Всего охотнее добываются здесь белка и соболь, потому что для них всегда есть верный сбыт, и цены вполне вознаграждают труд промышленника. Вообще, охотятся артелями, и все, что артель добудет, делится между участниками поровну <…> Белок добывается в год от 100 до 300 тысяч шкурок. Время ее добычи – с октября по декабрь, а иногда в феврале и марте. Цены на месте от 10 до 20 копеек за шкурку» [Кропоткин, 1895, с. 28]. Следует заметить, что в рассматриваемый период высокий спрос на мех этого зверя отмечается не только в Хакасии, но и во всей Сибири. Он был обусловлен большой востребованностью пушнины не только на внутрироссийском, но и на зарубежном рынках. В связи с чем, Н.С. Щукин констатировал: «Количество белки, добываемой в Восточной Сибири, невероятно. Известно, что половина белки идет в Китай, а другая в Европейскую Россию, и оттуда на Лейпцигскую ярмарку. В прежние годы меняли китайцам на Кяхте до 7 миллионов беличьих шкурок. Положим, что 8 миллионов уходило в Европу и потреблялось в Сибири: выходит страшный итог в 15 миллионов!» [Щукин, 1847б, с. 422]. Столь высокая добыча белки в дальнейшем привела к некоторому сокращению ее популяции в Хакасии и других сибирских регионах и, как следствие – удорожанию ее стоимости [Ярилов, 1899, с. 251; Кузнецова, Кулаков, 1898, с. 91].
Вместе с тем, в силу зоологических особенностей, в том числе и большой плодовитости (размножается два раза в год – весной и летом), белка, как правило, имеет возможно сть очень быстро восстанавливать свою популяцию. Большое влияние на численный рост этого зверя оказывает также и хорошая кормовая база. Численность белки меняется параллельно изменению урожая семян хвойных деревьев и других растений. В благоприятные годы, когда осенью, предшествующей размножению, был обильный урожай корма, белка интенсивно размножается. В результате чего, численность белок увеличивается в 4–5 раз, или на 1 пару взрослых приходится 8–10 молодых [Гуляев, 1956, с. 6].
Отмечаются случаи, когда осенью и до наступления морозов белки совершают далекие миграции. При этом они могут забегать в селения, переплывать реки и т.д. Эти перекочевки в основном объясняют- ся неурожаем в местах обитания белок основных их кормов – семян хвойных деревьев и иных дикоросов. В этой связи вызывают интерес личные наблюдения дореволюционных исследователей, описавших данное явление в рассматриваемом регионе: «Количество белки зависит, конечно, от урожая кедровых орехов. Временами бывает так называемая переходная белка, которая неизвестно откуда и куда идет, иногда в громадном количестве, так что свободно ходит в селениях по крышам домов. Если переход бывает осенью, – очень много бьют белок» [Кропоткин, 1895, с. 28]; «Бывают годы, что белка идет куда-то по одному направленно и только жестокие морозы останавливают ее в дремучих лесах. Если во время перехода встретит реку или речку, белка находит обломок древесной коры, и, дождавшись попутного ветра, кидает кору в реку. Вспрыгнув на этот плот, она поднимает свой пушистый хвост против ветра и таким образом переправляется на другую сторону» [Щукин, 1847б, с. 419–420].
Описанное биологическое поведение этих зверей хакасы обозначают термином « ағын тиин » – ‘поток белки’ [Бутанаев, 2011, с. 39]. В религиозно-мифологических представлениях народа столь массовая перекочевка лесных животных из одной территории тайги на другую объяснялась влиянием на этот процесс духов-хозяев тайги/горы – тайғы / тағ ээлерi . Согласно традиционному мировоззрению хакасов весь растительный и животный мир тайги воспринимается ими в качестве собственности указанных духов. При этом факт массовой миграции зверей в народе мог иметь различные интерпретации. В одном случае кочующие животные рассматривались в качестве свадебного приношения – калыма за невесту одних таежных духов другим. В иных – как возврат долга, образовавшегося в результате проигрыша в азартных играх. Заметим, что среди хакасов широко распространены мифы-былички о том, как духи гор или горные люди сильно увлекшись игрой в карты, проигрывают значительную часть своего «скота». Приведем один из них: «Один парень видел горных людей, играющих в карты на белок. Понял это по тому, что рядом бегала белка. Один из них проиграл. Поэтому в скором времени сюда должно прийти много белок. И действительно, через месяц в наших краях появилось много белок. Горные люди очень любят играть в карты, играют как на белок, так и на косуль. Проигравший посылает победившему часть своих зверей» (ПМА, 1998; Бурна-ков Ю.С., 1944 г.р., с. Аскиз РХ).
Хакасские охотники, исходя из обозначенных мировоззренческих представлений, прежде чем приступить к добыче зверя, обращались к нему с молитвенной просьбой разрешить им промысел. Одновременно с этим совершали ему жертвоприношения. Часто применяли еще и музыкальную магию. Для этого в ночное время, посредством горлового пения – хая, используя музыкальные инструменты, исполняли героические сказания и иные произведения устного народного творчества. Все это было направлено на обеспечение успешной охоты путем задабривания невидимых хозяев тайги. Верили, что тағ ээлерi, задобренные таким почтением и поднесенными подарками, в свою очередь с большой щедростью посылали охотникам свой «скот» – различных таежных зверей. Помимо того, одним из важнейших требований для обеспечения успешного промысла являлось соблюдение традиции иносказания по отношению к таежным обитателям и предметам охоты. Это выражалось в том, что все их непосредственные номинации заменялись подставными обозначениями. Так, например, в процессе охоты белку запрещалось называть напрямую тиин. В отношении нее чаще употребляли названия, точно подчеркивающие их индивидуальные зоологические особенности, например, «сӧӧк пас» – ‘костяная голова’, «узун хузурух» – ‘длинный хвост’ [Бурнаков, 2006, с. 156], сарбах [Бутанаев, 2011, с. 39] и др.
В Хакасии охота на белку ( тииннирге ) традиционно осуществлялась двумя способами: 1) с ружьем, а часто еще и с собакой (лайкой). При этом чтобы не испортить шкурку, добытчики целились в глаз белки, подтверждая звание метких стрелков; 2) путем применения деревянного самолова – плашки с приманкой, которая давила зверька силой тяжести гнета. В этнографических материалах XIX в. встречаются следующие описания этого процесса: «Белку всегда бьют из ружья; но для прочих зверей существуют еще другие способы охоты. Мелких пушных зверей ловить плашками и западнями на приманку. Зверьки этого способа ловли считаются лучшими, потому что у них шкурка не портится. Плашка только давить, не причиняя вреда меху; в западни же зверьки попадаются живыми; их душат охотники или убивают колотушками по голове» [Кропоткин, 1895, с. 28]; «Зверолов идет с винтовкой за плечами, собака впереди; попадая на свежий след соболя, она с лаем бежит по нему, догоняет беглеца, бросается на него, но соболь в одну секунду взбегает на дерево и, поместившись между ветвями в безопасном убежище, ворчит на преследователя своего. Приходит зверолов и роковая пуля поражает несчастного. Таким же способом промышляют и белку» [Щукин, 1856, с. 28].
В культуре хакасов ценность белки не ограничивалась лишь ее мехом. Ввиду того, что этот грызун питается преимущественно растительной пищей, в народе его мясо считается чистым и съедобным. Потому охотники, добыв белку, обычно ее тут же готовили и съедали [Щукин, 1847а, с. 279; Патачаков, 1958, с. 71]. В этой связи представляют большой интерес личные наблюдения И. Каратанова об этой пищевой традиции хакасских охотников. Приведем их: «Занимавшиеся звериною охотою инородцы с аппетитом едят мясо: сохатого, козлиное, медвежье и белок; последних даже приносить домой в виде лакомства, заменяющего гостинцы. Случилось мне видеть лично в тайге, как белкующая артель готовила белок; несколько десятков не очищенных тушек с головами и лапками клали в котел и варили; когда вода начинает очень кипеть, белки с выпученными глазами, растопыренными лапами начинают кружиться в котле, то всплывая наверх, то уходя на дно; когда глаза белок побелеют, суп готов» [Каратанов, 1884, с. 621].
В традиционной кухне таежников наиболее излюбленной и деликатесной частью приготовленной белки считаются ее мозги. Некоторые охотники отправляли их из тайги своим родственникам в качестве дорогого гостинца. Данная традиция наибольшее распространение получила среди хакасов, проживающих на подтаежных территориях, а также среди шорцев [Бурнаков, 2022, с. 114]. Потому представляется уместным привести рассказ, записанный нами в ходе экспедиционных работ в Хакасии. Обнародуем его: «Довелось одному сагайцу охотиться с шорцем. Шорец настрелял много белок. Затем всех их сварил и съел. Остались только головы. Их он сложил в мешок. Как он объяснил сагайцу, беличьи головы отнесет домой и отдаст жене и детям. По количеству голов они узнают, сколько белок ему удалось подстрелить. Потом они съедят беличьи мозги, ведь это лакомое блюдо» (ПМА–2000, Бурнаков В.С., 1940 г.р., с. Аскиз РХ).
Добавим и то, что в прошлом беличье мясо нередко заготавливалось впрок. Охотники в большом количестве его сушили и вялили на зиму [Кузнецова, Кулаков, 1898, с. 192]. В культуре хакасов некоторые дикоросы, устойчиво отождествляются с ее образом. В частности, во флористической лексике этого народа обозначение «беличья» встречается в наименовании отдельных видов ягод. Так, например, брусника называется « тиин хады » – ‘беличья ягода’. Очевидно, что на формирование данной номинации повлияли зоологические реалии, связанные с системой питания рассматриваемого зверька.
В системе жизнеобеспечения хакасов значение белки не ограничивается лишь ее пищевой ценностью. Шкура этого зверя широко использовалась при шитье этнической одежды. Из нее изготавливали шапки, воротники и шубы и пр. [Костров, 1853, с. 19; Кузнецова, Кулаков, 1898, с. 157; Ярилов, 1899, с. 15]. Беличий мех по своим свойствам является мягким, пушистым, густым и гладким. Помимо того, он еще и очень пластичен. Беличьи лапки (тиин пысхағы хуба) часто применялись для украшения оторочки женских шуб [Патачаков, 1958, с. 75]. Глубокий знаток хакасской национальной одежды Ю.А. Шибаева по этому поводу писала: «Оторочка шубы бывает составлена преимущественно из шкурок, снятых с ножек животных: черных овец или белок. Беличьи ножки очень ценятся как украшение шубы, их сшивают друг с другом поперек, так, что образуется меховая полоса, и на богатых шубах такие полосы ножек располагаются в 2 и 3 ряда. Так как шубы у хакасов очень широкие, то ножек идет очень много, до 1000 шкурок <…> Так, напр., щегольская шуба кызылки Улугба-шевой подбита сверху овчиной, снизу, с изнанки подола, беличьими шкурками. Другие щеголихи-хакаски с внутренней стороны подола шубы пришивают на небольшом расстоянии друг от друга (20–30 см) беличьи пушистые хвосты» [Шибаева, 1959, с. 38]. В жизни хакасов значение белки часто выходит за рамки ее сугубо практического применения. Этому животному отводилось особое место и в духовной культуре этого народа.
Белка и ее образ в религиозно-мифологических представлениях
В фольклоре, в том числе, и в мифологии хакасов белка, несмотря на ее широкую утилитарную востребованность, встречается все же не так часто, как другие представители фауны. Вследствие чего, сведения об этом звере в мировоззренческом комплексе рассматриваемого народа крайне ограничены и представлены фрагментарно. Несмотря на это, имеющийся материал все же позволяет в общих чертах реконструировать традиционные представления хакасов о белке.
Имеются основания полагать, что в религиозномифологическом сознании хакасов белка могла восприниматься в качестве тотемного животного. Так, например, среди многочисленных хакасских сӧӧк’ов – родов встречается тот, чья номинация передается посредством термина « тиин ». По сведениям В.Я. Бута-наева «качинцы осмысливали его название от слова “тиин” – белка» [1994, с. 8]. Вместе с тем, автор не исключает того, что этимология данного этнонима могла иметь не тюркское, а самодийское происхождение и обладать совершенно иным толкованием [Там же]. Не будем углубляться в этимологическую проблематику данного вопроса, т.к. это выходит за рамки задач нашей работы. Отметим лишь то, что в пользу нашего предположения о тотемистическом характере этнонима « тиин » может свидетельствовать факт того, что в религиозно-обрядовой практике хакасов был широко распространен фетиш « Хаҷай / Тиин тӧс » – ‘Беличий фетиш’, воспринимавшийся не просто как семейно-родовой дух покровитель, но и как далекий пращур. В отношение него регулярно осуществлялась ритуальная практика [Бурнаков, 2020, с. 117–120]. Заметим, что и в традиционной бурятской культуре были представлены разнообразные беличьи фетиши – онгоны, некоторые из них воплощали собой «женскую линию предков семьи» [Бадмаев, 2022, с. 110].
Как известно, мифологическая характеристика каждого животного во многом основывается на его зоологических особенностях. Не стала исключением и белка. Рассматриваемый зверек большую часть своего времени проводит в активном движении. При этом он с одинаковой легкостью посредством коротких прыжков перемещается как по земле, так и по деревьям. Белка прекрасно карабкается по всем деревьям и всегда спускается вниз головой. Перебираясь от одного ствола к другому, она способна прыгать вперед на расстояние до четырех метров. Данные ее повадки были отмечены хакасами в следующей народной загадке:
«Tiгi пари, тiктiн парир, Tiгi ағасха чапсын парир» За дерево цепляется’ ‘Бежит, летит игриво,
[Унгвицкая, Майногашева, 1972, с. 271].
Столь характерная и яркая часть тела белки, как хвост, служащая в качестве баланса и руля во время ее стремительного передвижения, а во время отдыха и сна еще и выполняющая функцию одеяла, также нашла отражение в устном народном творчестве хакасов. В нем нередко акцентируется сезонный желторыжий цвет ее шкурки, в том числе и хвоста. Указанный орган в мифологическом сознании ассоциируется с ее бородой. [Катанов, 1907, с. 286].
Хакасским охотникам иногда удавалось добыть белку совершенно белого окраса. В мифологических представлениях подобный, совершенно не типичный цвет животного ассоциировался со сферой сакрального. Полагали, что добыча такого зверя сулит охотнику счастье, вследствие чего его называли « тиин арбы-зы » – ‘беличье счастье’. Хакасы по этому поводу говорили: « тиин арбызы ах тиин таланға учурапча » – ‘белка в белой окраске охотнику попадается на удачу’ [Бутанаев, 2011, с. 39].
Жизнь белки неотделима от дерева. Большую часть своей жизни грызун проводит на деревьях. Он обычно живет в дуплах, хотя изредка строит гнезда или занимает уже готовые птичьи. Питается семенами хвойных деревьев, порой даже не спускаясь с них. Собственно и вся структура его тела идеально приспособлена к жизни на верхних ярусах леса. Развитые разгибатели пальцев, сгибатели предплечий, острые когти, брюшная мускулатура. Все это указывает на древесный образ его жизни. Обращает на себя внимание то, что белка быстро и без усилий взбирается вверх по стволу и также легко и непринужденно спускается вниз. Данная реалия, очевидно, способствовала тому, что в религиозно-мифологическом сознании хакасов сформировался двуединый образ дерева и белки. При этом обозначенное растение, как правило, воплощало собой идею мирового древа. А сам зверь, в силу своего природного естества, выполнял функцию медиатора, постоянно перемещающегося между верхним и нижним мирами. Указанное свойство, а также высокая скорость передвижения в пространстве, чрезвычайно сближает его с другим мифологическим посредником между мирами, а именно – с конем. Поэтому совершенно не случай- но то, что в хакасском языке самец белки обозначается, как «асхыр тиин» [Там же], т.е. букв. ‘беличий жеребец’.
В лесах Хакасии нередко встречается такой вид этих животных, как белка-летяга – ‘хак. пабырған / табырған ’ [Хакасско-русский, 2006, с. 334, 570]. У этого зверя между передними и задними ногами есть легкая перепонка. Помимо того, его кожа так растягивается, что дает ему возможность планировать по воздуху с дерева на землю или с дерева на дерево. В народе данная зоологическая специфика способствовала созданию его образа как «летающего зверя». В хакасском фольклоре имеются произведения, в которых фигурирует это лесное животное [Пабырған, 1969, с. 42]. Как правило, белка-летяга получает характеристику хитроумного и увертливого существа, наделенного двуедиными чертами зверя-птицы. Она всегда использует эту особенность с непременной выгодой для себя. В зависимости от складывающейся ситуации белка-летяга представляется то зверем, то птицей и мастерски уклоняется от отягощающих ее обязанностей. Приведем соответствующий отрывок:
«Орел спрашивает:
– Ты, сова, привела [белку-]летягу?
Сова говорит:
– Нет, [белка-] летяга не хочет идти. “Я – не птица, – говорит, – а зверь”. По земле побежала на четырех ногах, я ее за зверя приняла.
Звери говорят:
– Нам говорила [белка-] летяга: “Я – не зверь, я – птица”, забралась на дерево, улетела, мы ее за птицу приняли”» [Несказочная, 2016, с. 125].
К сказанному добавим, что в отличие от серых и рыжих белок, белки-летяги относятся к ночным животным и всю биологическую активность проявляют в указанный период. Все вышеизложенные факторы способствовали тому, что в традиционном сознании хакасов образ белки-летяги наделяется чертами шамана (хак. хам ). В связи с чем, в народе про нее говорили: « Пабырған – тиин хамы » – ‘белка-летяга – это беличий шаман’ [Бутанаев, 1999, с. 80]. Надо полагать, что в хакасских представлениях и о стальные виды этого зверя не были лишены шаманских качеств. В частности, полагали, что они могут видеть различных духов и предупреждать людей об их появлении. Так, в хакасском фольклоре встречается сюжет, согласно которому белка извещает охотника об угрозе со стороны злого духа айна в образе змеи [Катанов, 1907, с. 191].
В мифологических воззрениях народа белка не только обладает способностью посещать потустороннее пространство, но и имеет тесную связь с его обитателями, располагая магическими силами. Одним из таких сверхъестественных свойств, приписываемых ей, является оборотничество. Это находит отражение в эпическом творчестве хакасов. В героических сказаниях беличье обличие, как правило, при- нимает нечистая сила в образе ведьмы Хуу хат или некоего желтого призрака. Процитируем данные отрывки из эпосов:
«Алып Хуу хат, хызыл тиинге хубулып,
Тимiр тытха сых парир.
Тимiр тыттың пулут пазына
Cығapa ойлап парып, сын позын сығарып,
Парҷаң кӱзiн пазына салып,
Тимiр тытты ыйғап-чайхап тартып,
Алты тикпее одырта тартты, Анаң азыра тартып полбады».
‘Богатырка Хуу хат в красную белку превратившись, На железную лиственницу взбирается.
[И по той] железной лиственнице [с ее] верхушки
[на] облако
Взбежав, [и] свой истинный вид открыв,
Все свои силы, на верхушку [дерева] обратив, Железную лиственницу раскачивает качает, За шесть зарубок [к земле] потянула [ее], [Но] больше этого потянуть не смогла’
[Хан-Тонис, 2007, с. 222–223. Перевод наш. – Авт. ];
«Алты хурлығ ах хаяныӊ ӱстӱнде
Алтын пӱрлiг
Улуғ пай хазыӊ турчатхан.
Алтын пӱрлiг пай хазыӊ алтында
Он iкi торғайах ойласчатхан.
Кӧлеткi Сарығ алып,
Хызыл тиин полып, ойлап парыбысхан.
Арбығ-тарбығ тартыбысхан,
Чирнiӊ, тiгipнiӊ харазын
Tӱзipiбicкeн.
Он iкi торғайах, аар сабыл парып,
Пастарын пip чирге тудып,
Пыхпахтанзыбысханнар»
‘На вершине белой скалы с шестью уступами
С золотыми листьями
Величественная священная береза стоит.
У основания священной березы с золотыми листьями Двенадцать жаворонков резвились.
Тень-призрак богатырь Сарыг,
В красную белку обернувшись, побежал [к ним], Колдовские чары призвав,
Земли-неба проклятье [на них] напустил.
Двенадцать жаворонков, [крыльями] тяжело взмахивая, Головы вместе держа, с шумом упали’
[Айдолай, 1963, с. 131. Перевод наш. – Авт. ].
Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что в традиционной культуре хакасов белке и ее образу отводилось важное место. В жизни народа этот зверь имел большое утилитарное значение благодаря ценности его меха и тому, что мясо и иные части его тела входили в пищевой рацион охотников. Для таежных обитателей беличьи шкурки являлись важнейшим предметом торговли и налогообложения. Мех этого животного широко использовался в пошиве национальной одежды. Материальная ценность белки способствовала формированию ее по- ложительной коннотации в общественном сознании.
Вместе с тем в религиозно-мифологических воззрениях хакасов образ рассматриваемого грызуна не столь однозначен. Зоологические особенности указанного животного и его повадок, а также специфическая среда обитания способствовали формированию представлений о нем, как медиаторе и шамане. Среди магических свойств, приписываемых этому зверю, следует отметить его способность к оборотничеству, что нашло отражение в устном народном творчестве.
Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».
Список литературы Белка и ее образ в традиционной культуре хакасов (конец XIX - середина XX века)
- Айдолай. Героическое сказание. - Абакан: Хак. кн. изд-во, 1963. - 192 с. (На хак. яз.).
- Бадмаев А.А. Образ белки в традиционной культуре бурят // Томск. журн. лингв. и антропол. исслед. - 2022. -№ 1 (35). - С. 106-114.
- Бурнаков В.А. Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 208 с. EDN: QPFODB
- Бурнаков В.А. Фетиши - тесы в традиционном мировоззрении хакасов (конец XIX - середина XX века). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - 188 с.
- Бурнаков В.А. Баран в традиционной обрядности хакасов, связанной с жизненным циклом человека: свадьба и похороны (конец XIX - середина XX века) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. - 2022. - Т. 21. - № 3 - С. 110-121. EDN: ADHBYF