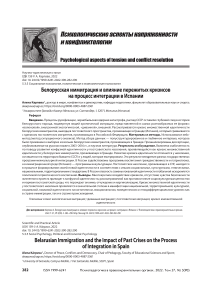Белорусская иммиграция и влияние пережитых кризисов на процесс интеграции в Испании
Автор: Карпава Алена
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психологические аспекты напряженности и конфликтологии
Статья в выпуске: 3 (90), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Процессы русификации, чернобыльская ядерная катастрофа, распад СССР оставили глубокий след в истории белорусского народа, подвергнув людей хронической миграции, представленной в самых разнообразных ее формах: «волоковой», внутренней экологической, «диванной», внешней. Рассматривается кризис множественной идентичности белорусских иммигрантов, выходцев постсоветского пространства, проживающих в Гранаде (Испания), который сравнивается с кризисом постсоветских мигрантов, проживающих в Российской Федерации. Материалы и методы. Использовался кейс-метод (метод ситуационного анализа). Метод сбора данных - полуструктурированное и глубинное интервью, которое было применено к выборке из восьми белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде. Проанализированы диссертации, опубликованные на русском языке в 2003-2016 гг., и научная литература. Результаты и обсуждение. Выявлена озабоченность по поводу развития конфузной идентичности у постсоветского населения, проявляющейся как кризис множественной идентичности у белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде. Развитие кризиса идентичности отличается у населения, оставшегося на территории бывшего СССР, и у людей, которые эмигрировали. Это результат внедрения разных государственных программ межкультурной интеграции. В России задействованы программы воспитания гражданственности и патриотизма, а в иммиграционной среде (Испания) - программы инкультурации. Постсоветское население, проживающее в СНГ, находится в процессе формирования своей новой идентичности в соответствии с иными социальными, культурными, этническими, национальными, территориальными стандартами. В России опасность замены локальной идентичности глобальной искореняется политикой патриотического воспитания. Выводы. Многократное воздействие кризисов, отсутствие чувства безопасности жизненного проекта приводят к конфузной идентичности, рассматриваемой как противостояние социокультурным ценностям и нормам постсоветской среды, что порождает аномию, отчуждение и маргинализацию. Кризис множественной идентичности у постсоветского населения проявляется в значительной степени в манифестации национальной, территориальной, культурной, социальной, языковой идентичности на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этнодифференциальном уровнях как в стране иммиграции, так и в стране происхождения.
Экологическая миграция, "диванная миграция", постсоветская миграция, кризис множественной идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/149140752
IDR: 149140752 | УДК: 159 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-390-282-290
Текст научной статьи Белорусская иммиграция и влияние пережитых кризисов на процесс интеграции в Испании
Алена Карпава 1, доктор в мире, конфликтах и демократии, кафедра педагогики, факультет образовательных наук и спорта; ;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Постчернобыльская эпоха, по выражению Ульриха Бека [2], — это эпоха «конца других», отмеченная абсурдностью реальных и символических границ. Это также эпоха общества риска [2], общества страха, устойчивость которого возможна только в рамках текущей современности [3]. Глобальность подвергает людей хронической миграции, которая выходит за рамки политических, экономических и экологических причин, проявляется во все более широком спектре миграционных форм, включая академическую миграцию или жизнь в движении фрилансеров. При этом больше всего страдают группы, не имеющие опыта рыночного предпринимательства. Между тем их стремление к устойчивому жизненному проекту вызывает страх у коренного населения, бессознательно воспринимающего угрозу со стороны глобальных сил, устанавливающих правила игры, часто абсурдные, нарушить которые оно не в состоянии [4].
Что касается хронической миграции, то она влечет за собой определенные последствия, такие как кризис идентичности [5], или конфузная идентичность [6]. О кризисе идентичности мы можем говорить не только как о проблеме формирования личности в подростковом возрасте, но и как об одной из фаз «миграционной скорби», наблюдаемой в процессе иммиграции [5; 7–9], или состоянии «диванной миграции» [1], затронувшей постсоветское население после распада Советского Союза. Население, отождествляемое с суперэтносом «Я из СССР», до сих пор ощущает потерю своих корней в результате социальных, культурных, политических, экономических и экологических изменений, происшедших после распада государства.
В нашем исследовании мы задались вопросом, сходно ли проявление конфузной идентичности у белорусских иммигрантов (восточных славян), проживающих на момент проведения исследования (2013–2016 гг.) в дальнем зарубежье (Гранада, Испания), и населения постсоветского пространства, эмигрировавшего из ближнего зарубежья в Россию.
Данная работа основана на предыдущем исследовании [1] качественного характера, центром которого была белорусская иммиграция в Гранаде (Испания), и изучении вопроса о кризисе множественной идентичности у постсоветских иммигрантов, проживающих на территории России, проведенного путем описательного анализа диссертаций, защищенных в период 2003–2016 гг. в России.
В ходе первого исследования мы заметили, что респонденты отдают предпочтение ассимиляции или «отрицательной реакции на желание сохранить культурную идентичность страны происхождения и положительной реакции на мультикультурный контакт» [10], проявляя признаки кризиса множественной идентичности (национальной, территориальной, культурной, социальной, языковой), выражающегося на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этнодифференцирующем уровнях [11]. Интервьюируемые демонстрируют частичный отказ от языка (русского и белорусского) в пользу испанского; от культурных практик страны происхождения; избегают контактов с русскоязычными иммигрантами; редко посещают страну происхождения; отвергают идею возврата; в их практике отсутствуют денежные переводы в Беларусь; респонденты, рожденные на территории РФ, отрицают белорусское гражданство, приобретенное по праву проживания в Белоруссии во время распада СССР, в пользу российского или испанского; наблюдается отказ от страны происхождения из-за экологического загрязнения после чернобыльской катастрофы [12].
Отречение от славянского начала, свойственное уже первому поколению иммигрантов, мы связываем не только с трудностями миграционного процесса, но и с проблемой кризиса идентичности постсоветского населения, порожденного исчезновением знакомой реальности. Это отречение препятствует процессу интеграции. Все опрошенные отдают предпочтение ассимиляции в принимающей культуре, дистанцируясь с каждым годом все больше от культуры страны происхождения. Предполагаем, что кризис идентичности мигрантов постсоветского пространства является реакцией на кризисы, унаследованные, с одной стороны, в стране происхождения, а с другой — приобретенные в принимающей стране. Эти хронические кризисы сказываются на личности и ее способности интегрироваться в новом изменяющемся социальном пространстве.
Материалы и методы
Данное исследование проводилось в два этапа. На первом этапе исследование выполнялось в рамках качественной методологии и имело биографически-нарративный характер. Использовался кейс-метод (метод ситуационного анализа). В качестве метода сбора данных применялись полуструктурированное и глубинное интервью, в котором участвовали восемь белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде [1]. Первая часть работы была посвящена анализу влияния программ временного приема белорусских граждан, пострадавших от чернобыльской аварии, на образование белорусской диаспоры в Гранаде (Испания). В этих целях опрашивались восемь женщин в возрасте от 19 до 53 лет из тридцати девяти белорусских иммигрантов, зарегистрированных в провинции Гранада на момент исследования. В связи с феминизацией изучаемой миграции установить контакт с представителями мужского пола не удалось. Хотя все респонденты имели белорусское гражданство, только двое родились в Республике Беларусь. Все они участвовали в гуманитарных программах временного приема лиц, пострадавших от чернобыльской катастрофы. У всех наблюдались признаки кризиса идентичности.
На втором этапе было проведено исследование состояния изучения вопроса о кризисе множественной идентичности у постсоветских иммигрантов, проживающих на территории России. Для этого проанализированы докторские и кандидатские диссертации, опубликованные на русском языке в 2003–2016 гг. Библиографические источники были взяты из электронной библиотеки научных работ Российской Федерации 1. Исследование структурировалось по следующим этапам: 1) постановка задачи; 2) поиск кандидатских и докторских работ по изучаемой теме; 3) кодирование данных; 4) анализ и обсуждение результатов. Сравнительный анализ показал существование некоторых совпадений в проявлении конфузной идентичности белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде, и населения постсоветского пространства, эмигрировавшего из ближнего зарубежья в Россию.
Результаты и обсуждение
-
1. Кризисы, унаследованные в стране происхождения
-
1.1. «Волоковая» миграция. Первый кризис бессознательного характера шесть из восьми опрошенных иммигрантов пережили во время «волоковой» миграции, будучи несовершеннолетними. Этот период связан с их переездом вместе с родителями в Республику Беларусь из России, Казахстана и Кубы. Родители троих респондентов состояли в смешанном браке:
-
мать была родом из России или Белоруссии, а отец казахского (один) или кубинского (в двух семьях) происхождения. В остальных трех случаях оба родителя были русского происхождения. Во время развития СССР они были отправлены в Республику Беларусь по программе переселения государственных служащих.
-
1.2. Внутренняя миграция как результат чернобыльской аварии. Второй кризис связан с чернобыльской ядерной катастрофой [1]. Респонденты, которые во время аварии проживали в Гомельской и Могилевской областях, в местах наибольшего радиоактивного загрязнения, стали частью внутренней экологической миграции на территории Беларуси [13]. Причиной этого миграционного процесса был поиск экологической безопасности, хотя это перемещение не решило проблему длительной экспозиции воздействия низких доз радиации. А. В. Яблоков утверждал, что радиоактивное облако затронуло все северное полушарие, достигнув американского континента [13]. По оценкам автора, число людей, пострадавших от радиоактивного загрязнения, составляет более 400 млн человек во всем мире.
В научных работах проблемы перемещения людей по экологическим причинам связывают и с изменением климата (деградация земель, опустынивание и засуха; стихийные бедствия и экстремальные погодные явления; повышение уровня моря и наводнения). По мнению ООН, существуют и социоэкономические причины экологических миграций, такие как промышленные аварии и загрязнения окружающей среды антропогенными выбросами; урбанизация и возведение инфраструктуры или конфликты, связанные с борьбой за природные ресурсы. Группы людей, переселяющиеся в связи с указанными обстоятельствами, рассматриваются как экологические мигранты, экологические беженцы, вынужденные эмигранты по экологическим причинам, климатические беженцы, экологически перемещенные лица и т. д. [12]. Однако ни один из этих терминов не передает всех деталей положения тех, кто пострадал от ядерной аварии [1].
В первые годы после аварии этот вид миграционного процесса носил явно вынужденный характер. Понимая, что окружающая среда серьезно повреждена, население «бежало от худшего», чтобы спасти свои жизни, не имея времени ни на принятие решений, ни на обдумывание своей судьбы или места назначения будущей миграции. Сравнивая таких мигрантов с беженцами, можно провести следующую аналогию: это лицо, которое по экологическим соображениям покинуло страну происхождения без возможности вернуться, поскольку его жизни угрожает опасность из-за воздействия радиоактивных веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания или другие проблемы как у самого человека, так и у его потомства. Кроме того, страна не может предоставить ресурсы для обеспечения надлежащей защиты, поэтому нет и шансов на безопасное возвращение. Отсюда следует вывод о близости положения экологического мигранта, ставшего жертвой промышленной аварии, и беженца. Однако это утверждение не имеет прочного правового обоснования. Первые могли бы пользоваться защитой Конвенции 1951 г. только в том случае, если деградация окружающей среды была бы связана с каким-либо преследованием, например, если бы они были признаны жертвами неадекватного управления страной.
В данном случае уместно применение термина «экологическое выселение», под которым мы подразумеваем лишение человека всех надежд на достижение желаемого благосостояния в его обычной среде, находящейся под влиянием побочных эффектов атомной промышленности, оказывающей непоправимое воздействие на экологические, физические, социальные, экономические, культурные условия пострадавшего региона [1]. Эта форма миграции также включает осознание «быть отвергнутым в юридическом смысле; быть забытым — не быть отраженным в научных исследованиях или не заслуживать внимания государственной политики; быть изгнанным — в смысле лишенным безопасного пребывания на месте своего обычного проживания и безопасного использования своей земли; или быть изгнанным из-за неблагоприятных экологических условий, а также неадекватного политического управления» [1]. Чернобыльская катастрофа повернула вспять как частные жизни людей, так и курс всей страны.
-
1.3. « Диванная миграция». Третий кризис связан с распадом Советского Союза в 1991 г. Опрошенные, особенно русского происхождения, чувствовали себя иностранцами в собственном доме. Под термином «эмиграция на диване» мы подразумеваем события, которые выпали на долю жителей Республики Беларусь сразу после распада СССР. В очень ограниченном промежутке времени граждане, отождествляемые с советским суперэтносом, эмигрировали, не выходя из своих квартир, из Белоруссии (Советской Социалистической Республики) в незнакомую страну — Беларусь, имеющую новые символы: конституцию, флаг, режим правления, язык, традиции, верования, рыночные отношения и т. д. Годы распада СССР привели к дифференциации этнической и национальной идентичности. Так, в Беларуси происходит разделение между новой «беларусской» этнической идентичностью, происходящей от топонима «Беларусь», независимой страны с 1991 г., и «белорусской» этнической идентичностью, характерной для Белоруссии — республики, входящей в состав СССР. Замешательство бывших советских граждан по поводу собственной идентификации особенно стало заметно при оформлении документов в дальнем зарубежье.
-
2. Приобретенные кризисы в принимающей стране
-
3. Развитие кризиса идентичности
В начале нового тысячелетия миграционная история опрошенных привела их к новому проекту к внешней миграции в Испанию. В принимающей стране к развитию конфузной идентичности добавляется «миграционная скорбь» [5], проявляющаяся в виде ситуаций психологических и социальных потерь, которые могут переживаться как «простая скорбь», когда принимающее общество способствует адаптации мигранта и развитию его жизненного проекта, или как «сложная скорбь», когда личные, социальные, политические, экономические обстоятельства затрудняют переживание потерь. Solano y Aubía [5], опираясь на теорию Brink y Saunders, описывает четыре этапа «сложной скорби»: 1) медовый месяц, 2) депрессивная стадия, 3) адаптация и 4) полный отказ от культуры происхождения.
В стадии адаптации респонденты смогли обдумать и взвесить преимущества иммиграционного процесса, сознательно принимая все эмоциональные и культурные потери. Однако интеграция тех, кто стремился к интеллектуальному и профессиональному признанию, была осложнена, в частности, из-за отсутствия сотрудничества со стороны принимающего общества, которое оценивает иммигранта через укоренившиеся стереотипы, а не через его способности и возможность внести свой вклад в развитие принимающей страны.
Стремясь быть принятыми, респонденты предпочли «отказаться от культуры страны происхождения» уже в первом поколении иммигрантов, хотя, по утверждению Solano y Aubía [5], этот этап больше свойственен второму поколению. Такое «отторжение» имеет форму кризиса множественной идентичности, который возникает в значительной степени на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этнодиф-ференсивном уровнях [11; 14]. При этом отвергаются все достижения страны происхождения, становится очевидным дискомфорт пребывания в стране происхождения; развивается сложная система ценностей и чувств к принимающей культуре, отрицающая всякую языковую, культурную, социальную, территориальную связь со страной эмиграции.
Социальные, политические, экономические, экологические процессы, постоянная реконструкция жизненного проекта усилили у опрошенных проявление кризиса множественной идентичности. В соответствии с пятой фазой универсальной модели личностного развития человека формирование устойчивой конфузной идентичности происходит в подростковом возрасте [6]. В ее устойчивой форме должны присутствовать индивидуальность, или признание уникальности личности; идентификация и целостность, или ощущение соответствия между ролью, развитой в прошлом, будущими ожиданиями и осознанием смысла жизни; единство и синтез, или гармония между самовосприятием и восприятием себя другими; социальная солидарность, или внутренняя солидарность с идеалами общества, ощущение удовлетворения социальных ожиданий [15].
Многократные потери в миграционных процессах повлияли на фазы развития личности опрошенных, циклически возвращающиеся к предыдущим стадиям, которые должны были быть преодолены на ранних этапах развития. Предлагаем метафорическое сравнение естественного преодоления восьми фаз развития психосоциальной идентичности и отсутствия ее консолидации под воздействием постоянно меняющейся реальности [11].
с конкурентоспособностью или, наоборот, с некомпетентностью. Респонденты пережили кризис профессиональной реализации, связанный со сложностями подтверждения дипломов, отсутствием социального признания и невозможностью профессиональной интеграции, что привело к снижению самооценки и состоянию отчаяния.
Что касается опрошенных, то уже у первого поколения иммигрантов мы замечаем маргинальное отношение к культуре происхождения, проявляющееся в отказе от языка, от культурной практики, от идеи возвращения и посещения родной страны, в отсутствии денежных переводов туда, в отказе от гражданства и в отказе от зараженной земли. В то же время наблюдаются трудности в связи с консолидацией жизненного проекта и обесцениванием социального статуса в принимающей стране.
Возникает вопрос: постсоветское население ближнего зарубежья, находящееся в настоящее время в России, пережило такой же кризис множественной идентичности после распада СССР? Какие меры были предприняты для облегчения процесса адаптации к меняющейся реальности?
Так, В. А. Ядов, Е. Н. Данилова акцентировали внимание на неопределенной идентичности постсоветского населения как причине социально-политической модификации российского общества, а также на приспособляемости индивида к новому социальному строю [16; 17]. В 2000–2001 гг. была проработана тема сохранения культурной самобытности у потомков смешанных браков. А. В. Лукина изучала формирование национальной идентичности как наследие распада социокультурной, экономической и политической модели государства [18]. А. Ф. Поломошнов рассматривал утрату идентичности и роль России в мировом пространстве [19]. В 2008 г. ученых беспокоили проблема территориальной идентичности и вопрос развития крупных городов как психосоциальное явление. В 2009 г. наблюдается интерес к исследованиям, посвященным кризису национального самосознания; кризису этнической идентификации с новой культурой; кризису лингокультурной идентичности на постсоветском пространстве. Ю. А. Шубин изучал потерю идентичности из-за отказа сохранения культурных практик и их передачи будущим поколениям [20]. Д. В. Сосновский исследовал процессы формирования региональной идентичности на Украине и влияние исторических процессов русификации на развитие конфузной идентичности населения бывших советских республик [21]. Н. А. Хвылю-Олинтер привлекала идентичность в процессе глобализации [22]. Поднимается и тема утраченной идентичности и социальной деградации северных регионов европейской России.
М. Е. Попов (2011) изучал конфликт идентичностей в посттрадиционной России [23]. Автор углубился в изучение кризиса этнонациональной идентичности и отсутствия самопознания русского общества как нации, а также отсутствия научного различия между локальной и региональной идентичностью. В исследовании И. А. Савченко о маргинальных тенденциях культурной идентичности постсоветского, русскоэтни-ческого и руссконационального населения говорится: «В то время как русскоэтническое население проявляет себя монокультурным (95%), население из ближнего зарубежья (СНГ) чувствует себя бикультурным (37%) или этническим маргиналом (13%) (что соответствует ответам наших респондентов. — А. К.). Степень маргинализации этнонациональной идентичности у населения СНГ очень высока. 65% иммигрантов из ближнего зарубежья (против 44% русскоэтнических) считают, что национальность — это театр, заблуждение, запись в паспорте, за пределами которой национальности не существует. После распада СССР население бывших советских республик, с доминантом русской культуры, подверглось кризису национальной и этнической идентичности, который до сих пор не разрешен (что также мы наблюдаем в изучаемой нами группе. — А. К.). Распад государства вызвал дезидентификацию с национальной, социокультурной группой, что негативно сказалось на восприятии смысла жизни, неопределенности с будущим проектом. Недовольство жизненно важным проектом наблюдается у 77% опрошенных. Дезадаптация к новой социальной реальности способствовала у постсоветского населения ослаблению внутригрупповых связей, разрушению принципа общинной культуры, стиранию отождествления с происхождением, усилению ориентации на индивидуализацию и эмиграцию. Это утверждение может объяснить негативную ориентацию наших респондентов на соотечественников и культуру происхождения. Что касается эмоционального состояния, то 92% респондентов СНГ считают себя ответственными за свою жизнь. При этом 96% говорят, что их жизнь пуста и бессмысленна. Это очевидное несоответствие в ответах может означать, что опрошенные признают нестабильность исторического момента, вписанного в бауманскую „текущую современность“ [3], и их бессилие перед ней. 92% респондентов (выходцы из СНГ) утверждают, что чувствуют себя хорошо в России. 50% из них отвергают идею возврата» [24].
После разрушения аксиологических, нормативных, социокультурных референтов постсоветское население все еще переживает последствия конфузной идентичности как ответ на рецидивные кризисы. И. А. Савченко утверждает, что постсоветское общество развивает маргинальное отношение, связанное с кризисом множественной идентичности, которое вызывает личный конфликт, кажущуюся адаптацию (ассимиляцию) и реальную дезадаптацию [24]. В ответ на эту проблему в 2015 г. было принято Постановление о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы 2, в котором патриотическое воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи. Главная цель — это воспитание граждан с высоким патриотическим сознанием, чувством верности Родине, готовностью выполнять гражданские и конституционные обязанности, направленные на защиту интересов Родины. В этой программе подчеркивается необходимость формирования гражданской идентичности российских граждан, а также обеспечения преемственности образовательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в условиях растущего экономического и геополитического соперничества.
Между тем Н. Кресова и А. Иванова изучают «ненадежную идентичность» русскоязычных эмигрантов в иммиграционном пространстве с помощью лингвистического анализа указательных местоимений, используемых в публикациях и блогах [8]. Исследование отражает, как все социокультурные ценности, приобретенные в стране происхождения (диплом, социальное положение, опыт работы, личные отношения), теряют свою значимость в стране иммиграции. В этих обстоятельствах человек страдает от неопределенности своей идентичности, которая порождает психические и физические проблемы, приводящие к потере самооценки.
Выводы
-
1. Кризис идентичности является причиной потери психосоциальной, этнокультурной, национальной, языковой ориентации, что вызвано воздействием многочисленных социально-политических, экономических, экологических, а также личных кризисов каждого человека.
-
2. Многократное воздействие кризисов, отсутствие чувства безопасности жизненного проекта приводят к конфузной идентичности, рассматриваемой как противостояние социокультурным ценностям и нормам новой постсоветской среды, чувство отвращения и враждебности к новым социальным реалиям, что порождает аномию, отчуждение и маргинализацию.
-
3. Кризис множественной идентичности у постсоветского населения проявляется в значительной степени в манифестации национальной, территориальной, культурной, социальной, языковой идентичности на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и этно-дифференциальном уровнях как в стране иммиграции, так и в стране происхождения.
-
4. Анализ российской научной литературы выявляет озабоченность по поводу развития конфузной
-
5. «Я знаю, кем я не являюсь, но я не понимаю, к каким группам и обществам я принадлежу», — эта фраза респондента иллюстрирует неопределенную идентичность лиц постсоветского пространства, отмеченную распадом иллюзии о сходстве интересов государства и личности, подчеркивая неравенство интересов социальных, этнонациональных, этнокультурных, региональных, территориальных, профессиональных классов. Постсоветское население, проживающее в СНГ, находится в процессе формирования своей новой идентичности в соответствии с новыми
идентичности у постсоветского населения, проявляющейся как кризис множественной идентичности, что мы также наблюдаем у белорусских иммигрантов, проживающих в Гранаде. Вместе с тем развитие кризиса идентичности отличается у населения, не эмигрировавшего с территории бывшего СССР, и переселившихся людей. Это может быть результатом внедрения разных государственных программ межкультурной интеграции. Так, в России были задействованы государственные программы воспитания гражданственности и патриотизма, а в иммиграционной среде (Испания) — программы инкультурации.
социальными, культурными, этническими, национальными, территориальными стандартами. В России опасность замены локальной идентичности глобальной искореняется политикой патриотического воспитания. Между тем постсоветское население, эмигрировавшее в момент максимального политического, культурного, социального, национального, этнического кризиса, проявляет консервативность конфузной идентичности, не имея интереса к восстановлению какой-либо этнической, национальной или социокультурной идентификации со страной происхождения.
Перспективы. После начального когнитивного приближения к проблеме и в соответствии с основной идеей национального стратегического плана интеграции в Испании, направленной на развитие культурной идентичности, укрепление социальной сплоченности, сотрудничество между коренным населением и группами меньшинств, предлагаем проработать вместе с заинтересованной группой социально-образовательный интервенционный проект, направленный на создание атмосферы для осознания и раскрытия участниками своего личного, культурного и профессионального потенциала.
Список литературы Белорусская иммиграция и влияние пережитых кризисов на процесс интеграции в Испании
- Kárpava A. Implicaciones de los programas de acogida temporal de los menores, víctimas de la catástrofe nuclear de Chernóbyl, en el desarrollo de la inmigración ambiental bielorrusa en la provincia de Granada. Integración en el espacio de la paz intercultural. (Tesis doctoral). 2013. https://digibug.ugr.es/handle/10481/31199?locale-attribute=en (.
- Beck U. La sociedad de riesgo: hacia una nueva modernidad. Trad. Navarro J., Jiménez D, & Borrás, Ma R. Barcelosna: Paidós. 1998.
- Bauman Z. Modernidad líquida. Trad. Rosenberg M., & Arrambide Squirru J., IV edición. Madrid, 2018.
- Bauman Z. Miedo líquido: la sociedad contemporánea y sus temores. Trad. Santos Mosquera, A. Barcelona, 2006.
- Solano Galvis C. A., & Aubía Hernández N. I. Una frontera de Europa en África: condiciones para acercarse a la inclusión social. IV Jornada académica da ADESA Direito Internacional e Rela^oes Internacionais. Realizado no Universidade Estácio de Sá, Río de Janeiro, 2019, mayo.
- Erikson E. Identidad, juventud y crisis. Madrid, 1992.
- Pujadas J. Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. Madrid, 1993.
- Kresova N. & Ivanova A. Definir y defender la identidad en un debate político: El caso de los blogueros emigrantes rusos. Revista Signos. 2014. № 47(85). Pp. 245-266.
- Eidheim H. Cuando la identidad étnica es un estigma. En Barth F. (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. México, 1976. Рр. 50-74.
- Basabe N., Zlobina A. & Páez D. Integración sociocultural y adaptación psicológica de los inmigrantes extranjeros en el País Vasco. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2004.
- Kárpava A. In-e migrante e identidad confusa. En Hernández Prados, Ma Á. (coord.), Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural. Murcia, 2017. Рр. 67-73.
- Kárpava A. & Bedmar-Moreno M. Desahuciados medioambientales. Historias de vida. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. 2015. Vol. 22(69). Рр. 107-130.
- Яблоков А. В., Нестеренко В. Б., Нестеренко А. В., Преображенская Н. Е. Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы. Киев, 2011. 592 с.
- Kárpava A. La identidad cultual confusa, respuesta desde la educación social. En Soriano Díaz A. & Bedmar Moreno M. (coords.), Temas de Pedagogía Social / Educación Social, 197-236. Granada, 2015
- Фрейджер Р. & Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М., 2004. 608 с.
- Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 2015. № 314. С. 40-60. http://www.isras.ru/files/File/Publication/Mir_Rossii_1995_no 3-4_Yadov.pdf.
- Данилова Е. Н. Идентификационные стратегии: российский выбор // Социологический журнал. 1995. № 6. С. 56-65. http://ecsocman.hse.ru/data/398/786/1217/017Danilova.pdf.
- Лукина А. В. Социокультурные технологии формирования национальной идентичности : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. http://www.dissers.ru/1/9161-1-lukina-anastasiya-vladimirovna-sociokulturnie-tehnologii-formirovaniya-nacionalnoy-identichnosti-istor.php.
- Поломошнов А. Ф. Культурная идентичность России: Н. Данилевский против В. Соловьева : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Ростов н/Д, 2007. 45 с.
- Шубин Ю. А. Традиция как ресурс социально-культурной идентичности личности в современном обществе : дис. ... канд. культурол. СПб., 2009. 177 с.
- Сосновский Д. В. Процессы формирования региональной идентичности на Украине (на примере Крыма) : дис. ... канд. полит. наук. М., 2009. 171 с. http://www.libed.ru/dissertatsiya/811721-1-processi-formirovaniya-regionalnoy-identichnosti-ukraine-na-primere-krima.php.
- Хвыля-Олинтер Н. А. Национально-культурная идентичность современной российской молодежи в условиях глобализации: методология социологического анализа : дис. ... канд. социол. наук. М., 2011. 157 с.
- Попов М. Е. Конфликты идентичностей в посттрадиционной России : автореф. дис. ... д-ра. филос. наук. Севастополь, 2011. 42 с.
- Савченко И. А. Культурная идентичность как индикатор маргинальных тенденций // Известия Уральского государственного университета. Серия 2, Гуманитарные науки. 2011. № 2(90). С. 209-222.