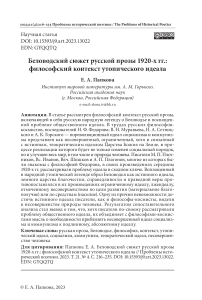Беловодский сюжет русской прозы 1920-х гг.: философский контекст утопического идеала
Автор: Папкова Е.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен философский контекст русской прозы, включающей в себя русскую народную легенду о Беловодье и посвященной проблеме общественного идеала. В трудах русских философов-космистов, последователей Н. Ф. Федорова: В. Н. Муравьева, Н. А. Сетницкого и А. К. Горского - пореволюционный идеал социализма и коммунизма представлен как несовершенный, ограниченный, хотя и связанный с истинным, теократическим идеалом Царства Божия на Земле, в процессе реализации которого будет не только изменен социальный порядок, но и улучшен весь мир, в том числе и природа человека. Писатели М. П. Плотников, Вс. Иванов, Вяч. Шишков и А. П. Платонов, многие из которых были знакомы с философией Федорова, в своих произведениях середины 1920-х гг. рассматривали проблему идеала в сходном ключе. Воплощенный в народной утопической легенде образ Беловодья как истинного идеала, земного царства благочестия, справедливости и праведной веры противопоставлялся в их произведениях ограниченному идеалу, лжеидеалу, отмеченному несовершенством по цели развития (материальное благополучие) или по средствам (насилие). Одну из причин невозможности достичь истинного идеала писатели, как и философы-космисты, видели в несовершенстве природы человека. Результатом сопоставительного анализа стал вывод о том, что, хотя писатели по-своему рассматривали проблему общественного идеала, их объединяет с философами-космистами мысль о необходимости приблизить несовершенный идеал социализма и коммунизма к подлинному, абсолютному идеалу.
Русская проза, беловодье, философия, контекст, утопический идеал, социализм, коммунизм, теократический идеал, несовершенство человека
Короткий адрес: https://sciup.org/147242332
IDR: 147242332 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13022
Текст научной статьи Беловодский сюжет русской прозы 1920-х гг.: философский контекст утопического идеала
С ередина 1920-х гг. отмечена в русской прозе появлением ряда произведений, включающих в себя легенду о Беловодье, в которой воплотилось народное представление об утопическом идеале. Исследователями неоднократно отмечалось, что во второй половине 1910-х гг. в русской литературе наблюдается возвращение к народным утопиям, понимание революции как «начала осуществления чаяний, запечатленных в образах "Китеж-града", "мужицкого рая"» [Семенова, 2001: 43]. То же можно сказать и о Беловодье. Однако при всей близости этих легендарных топосов, между ними имеются существенные различия. «Китежская легенда фиксирует момент "исхода", — указывал А. И. Кли-банов. — <…> Беловодская легенда естественно дополнила Китежскую, как и "исход" дополнен был "обетованной землей". Ею и явилось Беловодье» [Клибанов: 220]. В отличие от сокровенного града-Китежа, Беловодье представляет собой «"земное царство" с идеальным строем общественных отношений» [Клибанов: 221]. Таковыми стремились быть и утверждаемые идеологами новой власти социализм и коммунизм.
Произведения с беловодской тематикой создавались в России в 1910-е и в 1920-е гг. В предреволюционный период и в первый год революции печатаются романы А. Чапыгина «Белый скит» (1913), А. Новоселова «Беловодье» (1917), Г. Гребенщикова «Чураевы» (1 ч. — 1917), а кроме того очерки А. Новоселова «У старообрядцев Алтая» (1913), Г. Гребенщикова «Алтайская Русь» (1914) и др., включающие мотив поисков Беловодья (подробнее см.: [Анисимов: 238–250]). В середине 1920-х гг. в русской литературе вновь наблюдается обращение к названной теме. Обнаруженная нами в РГАЛИ авторизованная машинопись повести сибирского писателя М. П. Плотникова «Беловодье» была отклонена журналом «Красная новь» в 1925 г. и впервые напечатана лишь в 2011 г. (Сибирские огни. 2011. № 4). В предисловии к публикации нами была предпринята попытка выявить в литературе 1920-х гг. типологически близкие произведения, включающие мотивы поиска Беловодья [Папкова, 2011a]. Таковыми оказались повести М. Плотникова «Беловодье» (конец 1924 — начало 1925 г.), А. Караваевой «Золотой клюв (Повесть о далеких днях)» (1925), В. Шишкова «Алые сугробы» (1925), Вс. Иванова «Бегствующий остров» (1926), рассказ
-
А. Платонова «Иван Жох» (начало 1927 г.). В работах второй половины 2010-х гг., посвященных теме Беловодья, современные исследователи, с опорой на названные нами художественные тексты 1920-х гг., выстраивают новые концепции, посвященные уже прозе второй половины ХХ — начала ХХI в., выделяя, в частности, в русской литературе «беловодский метатекст» или «мифологему» (см.: [Ковтун], [Богумил, 2018]).
Анализ исторического контекста проблемы утопического идеала, ставшей центральной в данной группе произведений именно в 1920-е гг., показал, что их появление было вызвано прежде всего реалиями жизни Советской России, наиболее значимыми среди которых стала смерть В. И. Ленина в 1924 г. и актуализация вопроса о политическом и экономическом пути страны (см.: [Папкова, 2021]). Однако был у поставленной писателями проблемы и философский контекст, до сих пор не рассматривавшийся в научной литературе. Наиболее близкими в этом отношении к авторам произведений с беловодским сюжетом стали русские философы-космисты, последователи философа Н. Ф. Федорова, — В. Н. Муравьев, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий.
Вопрос об общественном идеале в русской литературе, русской религиозной философии и народной культуре конца XIX — первой трети ХХ в. не только ставился в социальном плане, как это происходило в политике, но и рассматривался гораздо шире — как идеал религиозно-нравственный. Еще в 1881 г. в «Дневнике Писателя» Ф. М. Достоевский дал определение «русского социализма»: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово»1. Выдающийся русский философ Н. Ф. Федоров, как отмечает исследователь философии русского космизма А. Г. Гачева, в конце жизни «сделал ряд набросков, дающих его собственную трактовку того этапа истории, который, согласно Откровению, будет тысячелетним торжеством на земле Христовой правды» [Гачева, 2021: 480]. В соответствии с пониманием Федорова, в это время «регуляция» «внутри планеты уже достигает своей полноты, распространяясь как на окружающую природу <…> (внешняя регуляция), так и на самый организм человека (внутренняя регуляция)» [Гачева, 2021: 481]. Так же изменится и организация общества, ибо «регуляция не ограничивается физиологической стороною призываемых, но простирается на внутреннюю сторону, психическую»2. Исходя из мыслей Федорова, Гачева приходит к выводу, что, в понимании философа, впоследствии «юридико-экономический уклад сменяется психократией, держащейся не внешним ограничением и принуждением, а внутренним благодатным законом любви» [Гачева, 2021: 481].
Революцию 1917 г. русские деятели культуры восприняли как событие не столько социальное, сколько онтологическое, имеющее вселенский масштаб и ведущее человечество к бессмертию и раю на земле. Однако уже в первые пореволюционные годы последователи Федорова, философы Горский, Сет-ницкий и Муравьев, в целом принимая идею создания нового общества, отвергли многое из социального идеала в понимании большевиков, представлявшегося им внешним, неполным в силу классовых, имущественных и иных ограничений. Так, Муравьев отмечал, что «то понимание социализма, которое зреет в почве христианско-крестьянской Руси», «не имеет ничего общего с Марксовой "диктатурой пролетариата", классовым разделением и враждой: это единство, основанное на идеале соборности, пронизанное евангельским духом любви» [Гачева, 2011: 9]. После победы Октября Муравьев стремится увидеть истоки и корни социализма в истории русского народа, его искании Царства правды и, возможно, сотрудничая с Советской властью, способствовать перерождению революционного идеала в идеал теократический. Эта мысль ясно прослеживается в письмах философа 1919–1920 гг., адресованных главному идеологу Советской России — Л. Д. Троцкому. В наибольшей степени мысли философа раскрываются в письме от 6 января 1920 г., где противопоставлены идеал материалистический и идеал теократический. Теократический идеал, возражает большевикам философ, «имеет над Вашим то преимущество, что захватывает всего человека, не только телесного, но и духовного, и всю конкретную историю, а не взятую из нее искусственно одну только экономическую схему»3. Однако два идеала не только противопоставлены, но и сопоставлены. Рассматривая коммунизм как «идею еще свернутую»4, философ предсказывает, что «когда-нибудь мы к этим идеям придем и что социализм сыграет роль в этом процессе»5. В заявлении «В Особый отдел ВЧК», написанном 25 февраля 1920 г., Муравьев продолжает раскрывать свои мысли о связи двух идеалов, ожидая того времени, когда социализм, «преодолев самого себя», «перестанет быть социализмом и станет откровенно теократическим идеалом в новой форме»6.
В целом в своих статьях, заявлениях, письмах, в мистерии «София и Китоврас», особенно ее редакции 1924–1925 гг., Муравьев многократно подчеркивает, что социализм сохраняет связь с тем единым и единственным идеалом, который был дан в слове Христа ученикам об искании Царствия Божия и в Китеже, Беловодье, Опоньском царстве, но пока является идеалом ограниченным, неполным. В «Ночи шестой» мистерии, где София попадает в «Царство подземных людей», она объясняет эту ограниченность «отсутствием строительной идеологии» в «современной русской революционной практике»: изменение мира у большевиков «ограничивается перераспределением земных благ и известной реорганизацией государственного строя и юридических институтов»7.
Единомышленниками Муравьева были философы Сетниц-кий и Горский. Сетницкому, в частности, принадлежит существенный теоретический вывод о воплощении идеала. В книге «О конечном идеале» (1932) философ «вводит понятие "дробного идеала", противопоставляя его "целостному" или "абсолютному" идеалу». Для этого идеала, в том числе и для социализма и коммунизма, характерны «временность и локальность, принципиальная невсеобщность», несовершенство по цели развития (материальное благополучие) или по средствам (насилие, кровь). «Дробные идеалы» «могут нести в себе те или иные черты целостного идеала, но не равновелики ему, заключают в себе мечту о преображении мира, но редуцированно, а подчас и искаженно» [Гачева, 2021: 535]. Изучая вопрос об идеальном устройстве общества, Сетницкий, вслед за Федоровым, тесно связывал социологию с антропологией и онтологией. Он считал, что «нестроения в социуме — следствие стихийности и несовершенства самой природы человека, самостной, противоречивой и смертной, а значит, и порядка природы как такового, ибо человек — та же природа, только пришедшая к самосознанию» [Гачева, 2021: 536]. С этой точки зрения философ рассматривает и социализм, считая его лишь частью, дробью, в сравнении с «абсолютным» идеалом Царства Божия.
Именно искание «целостного» идеала и противопоставление ему «дробного» воплотилось в прозе Советской России 1920-х гг. в группе произведений, основанных на легенде о Беловодье. В отличие от текстов 1910-х гг., главным в которых является путь в Беловодье и завершающихся на том этапе странствия героев, когда после долгой и трудной дороги перед ними только открываются вдали, реально или в предсмертном видении, церкви и белые колокольни праведной земли, произведения, написанные после революции, в период нэпа, построены по-другому. Герои их также отправляются в путь, в результате которого приходят в некое место, название которого прямо или косвенно указывает на Беловодье: Белый остров (Белоостровье) у Иванова, Бухтарминская долина у Плотникова и Караваевой, Вечный Град-на-Дальней реке у Платонова, некая горная долина на Алтае у Шишкова, — и собираются там строить новую жизнь.
Мы далеки от утверждения, что писатели, создавая бело-водские тексты, напрямую ориентировались на труды фило-софов-космистов, хотя известно, что исследователями творчества и биографами Платонова и Иванова установлены знакомство писателей с философией Н. Ф. Федорова и ее влияние на их произведения. «Андрей Платонович обладал редким по цельности и убежденности мировоззрением, прямо связанным с традицией активно-эволюционной, космической мысли, прежде всего с философией Николая Федорова», — отмечает
С. Семенова [Семенова, 2020: 21]. О том, что Иванова волновали вопросы жизни, смерти и бессмертия, всеобщего спасения, что в его библиотеке хранились труды Федорова, нам уже приходилось писать [Папкова, 2011b]. Есть вероятность, что Плотников, с 1917 по начало 1920-х гг. живший в Омске, мог познакомиться с «Философией общего дела» в кружке А. С. Сорокина, который посещал и Иванов. Подтверждением этому, возможно, служат строки из пьесы «Гордость Сибири Антон Сорокин» (1918), скорее всего, явившейся плодом коллективного творчества писателей сорокинского кружка. Среди действующих лиц названы Иванов и Плотников. Говоря о будущем процветании Сибири, поэт А. Оленич-Гнененко восклицает: «…Философия и Клюева творения / Прочертят достойный след…» [Неизвестный Всеволод Иванов: 148]. О знакомстве Шишкова и Караваевой с философией Федорова и его последователей данными не располагаем. Но в этом случае не так существенно, читали ли писатели труды философов, важно, что понимание «абсолютного» и «дробного» идеалов оказалось у них поразительно близким.
Завершающие повесть Плотникова слова:
«Скоро умрет наивная вера в старую Беловодскую землю, ибо человечество на путях к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому»,8 — указывают, что с народным пониманием праведной земли, Беловодья, сопоставлены именно социализм и коммунизм, которые, как тогда ожидалось, станут идеальным общественным устройством не только в России, но и в мире в целом. Выскажем предположение, что Плотников, Иванов, Шишков и Платонов, включившие в свои произведения русскую утопическую легенду, не только отражали духовный идеал народа, но и обращались к новой власти с неким наказом скорректировать два идеальных образа. Собственно, к этому стремился и Муравьев, когда писал Троцкому: «Мне мерещится в тумане, быть может, когда мы пройдем через социализм, начало новой религиознообщественной эры…»9.
Все произведения с беловодским сюжетом, как нами было отмечено в статье, где рассматривался историко-культурный и литературный контекст этих текстов [Папкова, 2021], имеют сходную композицию.
В первой части повествования у всех авторов появляется возвышенный образ «целостного» идеала в его народном понимании. Например:
«А там, за высокими алмазными хребтами для незримых очей духовидцев горела куполами многих церквей земля древляя, земля правой веры, земля Беловодская и колокольным звоном многих звонниц звала к себе»10.
В образе Беловодья писатели подчеркивают духовные составляющие: благочестие, свободу, справедливость, праведную веру.
По мнению исследователей, «легенда о Беловодье имела общерусский характер и распространение, и в то же время была особенно популярна среди старообрядцев-беспоповцев, причем сыграла определенную роль в развитии "бегунства" — крайнего, радикального его ответвления» [Чистов: 318]. Отчасти потому в легенде «мечта о вольной земле сочетается <…> с типично старообрядческой мечтой о земле, сохранившей "древлее благочестие"» [Чистов: 316–317]. Для стремящихся туда важным являлось и отсутствие всех светских властей: «…светскаго суда у них нет; а управляют народом духовныя власти» (цит. по: [Чистов: 431]).
Не все произведения с беловодской темой рассматривают проблему «дробного» и «целостного» идеалов. Сразу следует подчеркнуть, что в повести Караваевой «Золотой клюв», в сущности, эти понятия сливаются воедино и в роли «целостного» идеала выступает «дробный». В центре внимания писательницы не крестьянский мир, а представители рабочих, и, рисуя мировоззрение своих героев, Караваева исключает религиозную составляющую образа Беловодья. Бергалы (рабочие) в повести «Золотой клюв» стремятся, собственно, не в Беловодье, а в вольный и богатый Бухтарминский край:
«В Бухтарме все-е есть, чо хошь. И лес, и пашня, и зверь, и золото… и… и… токмо рук не жалей… <…> Горяча и приветна земля, певучи, обильны рыбой реки на Бухтарме…»11.
Действительно Бухтарминская и Уймонская долины, как убедительно показал Чистов, «оказались <…> между государственными границами России и Китая на нейтральной территории, интереса к которой не проявляло ни одно, ни другое правительство <…>, возможно, к концу XVIII в., слухи о существующей мужицкой земле, без чиновников и попов, достигли и европейских губерний. Есть сведения о том, что во второй половине XVIII в. именно эти две долины и назывались Беловодьем» [Чистов: 307].
Все авторы описывают сложность дороги в праведную землю, неизведанными путями, нетореными тропами.
В связи с темой нашей статьи и анализом философского контекста указанных произведений рассмотрим подробно третий элемент композиции беловодских текстов, где можно увидеть, что авторы описывают некое преображение, или дробление, идеала: образ праведной земли принимает обличье богатой земли, где и остаются странники. Наиболее ярко эта «подмена» (термин А. К. Горского; см.: [Гачева, 2018: 208–209]) идеала представлена у Плотникова. По дороге в Беловодье странники узнают, «что за камнем (за Уралом. — Е. П .) земля богатая, где жить в легкости можно и никто там не сыщет»12.
Уставшие от долгого пути, люди решают отдохнуть там. Самый старый из них объявляет народу:
«…теперь нам надо наше житье временное обсудить. <…> Земля здесь большая и свободная, места много. <…> Жить мы будем сотовариществом, дела наши решать миром»13.
Люди селятся по рекам Бухтарме, Белой, Ясной, добывают соболей, пашут земли. Только инок Иосаф не устает напоминать об истинной цели — пути в «настоящее Беловодье», предосте регает, что «н арод на здешней земле обживется и о земле
Беловодской забудет»14. Действительно, начинается тяжелая, но вольная жизнь, и народ забывает о Беловодье.
Вслед за Федоровым и Сетницким Плотников подчеркивает несовершенство природы людей, стремящихся к совершенному идеалу. Постепенно на новой земле появляются старые потребности (трудно жить без соли) и старые страсти (нужны бабы). Многие, «которых мало манило загадочное Беловодье, как холодные воды Светло-Яра, где спрятался град Китеж», хотят отправиться в Китай, в ближайший город Кобдо: «…пойдем мир посмотрим да и от кнута избавимся»15. Китайский Богдо-хан не принимает русских в свое подданство, и на обратном пути праведник Иосаф вновь напоминает о «целостном» идеале:
«Далекий путь мы совершили с вами, многие из вас веру в землю Беловодскую утратили, но говорю вам, есть та земля…»16.
Со временем, особенно с приходом других людей, новая земля приобретает все больше черт старой:
«Множились люди за Камнем, но не множилась вера истинная в людях <…>. Множились люди худые, заводились ссоры да распри, доходило дело до схваток и ножей»17.
Господь посылает неурожай и голод. В главе «Конец Бух-тарминской вольницы» показано, как под ударами и извне, и изнутри гибнет свободная Бухтарма. Отметим перекличку с мыслью Сетницкого о том, что «дробные идеалы, несмотря на кажущуюся их "реалистичность" и легкую "достижимость", никогда не воплощаются до конца, по ходу реализации терпят крах <…>. Воплотим же во всей полноте может быть лишь абсолютный, целостный идеал» [Гачева, 2021: 535].
Повествователь в рассказе Платонова, по сути, говорит о той же «подмене» «целостного» идеала «дробным». В завершающей части текста появляется образ «преуспевающего раскольничьего скита»:
«У сибирских староверов он известен под именем Вечного Града-на-Дальней реке».
Созданный в XVIII в., он и в 1919 г. живет в большом «достатке и благополучии»18.
Есть в Вечном Граде игумен Георгий, обладавший «одиноким восторженным и свежим сердцем», который написал философскую книгу о «ничем нерушимом покое тайги», — персонаж, близкий иноку Иосафу из повести Плотникова. Но в целом раскольничья столица тоже живет по законам старой жизни:
«Наверно, богатство и было настоящей силой, что влекла сюда исконных раскольничьих людей? — предполагает повествователь, подчеркивая, что описанный идеал не является истинным. — Все прочее — вера в правильность двуперстного сложения руки, осьмиконечный крест, борода и другое — было так, лишь для признака дружной хозяйственной жизни. А этот Георгий — случайность, так сказать, жемчужина мечты в том царстве покойного богатства и сытой жизни…»19.
Герои повести Иванова достигают Белого Острова и тоже создают там свое «царство». На «недоступных холодных водах» селятся раскольники, ставят молитвенный дом, кто-то рубит дома и поднимает пашни, праведники живут на горе Благодати схимниками-пустынниками20. Но — нужны ружья и порох, и начинается торговля с зырянами села Черно-Ореховое. Постепенно взрастают земные страсти: появляется честолюбие у Гавриила-юноши, мечтающего о киновиаршестве; от радости, что «в Руси царя нет» и старая вера воротилась, среди схимников начинается «блуд неудержный»; молодые, в том числе и дочь кроткой старицы Александры-киновиарх, хотят в «мир» уйти21. Подобно другим писателям, Иванов вводит мотивы несовершен ства природы человека и утраты веры.
Как и у Плотникова, в повести Иванова Беловодье (Белый Остров) по-прежнему остается образом недостижимой мечты: в тайге бушует пожар, погибают Три Сосны — Три Святителя, но часть раскольников возвращается в свою обитель:
«А через недельку и топи открылись. Ну, теперь и попробуй, попади на Белый Остров»22.
По-другому строится повесть Шишкова «Алые сугробы», но и здесь присутствует антитеза «дробный» идеал и «целостный». Так же, как в других беловодских текстах 1920-х гг., герой повести, крестьянин Афоня, не доходит до настоящего Беловодья, а попадает в некое богатое место, о котором рассказывает спасший его татарин:
«— Земля шибко якши тут… А-яй, какой земля самый хорош.
Работать мало-мало можно, денга колотить можно»23.
«…Афоня почти находит "райскую землю" лишь в больном бреду, — отмечает Т. А. Богумил, — а в реальности — пусть и хорошую землю, но не Беловодье» [Богумил, 2020: 133–134].
Противопоставление двух идеалов, как мы уже отметили, отсутствует в повести Караваевой. В главе «Бухтарма» показано, как устраивается материальное благополучие людей: беглецы строят себе избы, шьют теплую одежду из пушнины, строгают лыжи для охоты, приносят жирную медвежатину. Но начинаются раздоры: «Думы пошли в разные стороны, стали искать себе разных троп…»24. И у Караваевой появляются те, кто предлагает идти дальше, но это дальнее место представлено не как истинное и праведное («Беловодье»), а лишь как более надежное, защищенное от внешних врагов и, конечно, богатое, то есть по-прежнему «дробный», а не «целостный» идеал. Рабочий Аким рассказывает другим «про город Аблайкит»:
«Жило тамо племя како-то богатеющее… И пришла к им болесть злая… Померли от ее все, а богачества оставили в погребах глубоких… Богачеств на всее жисть хватит…»25.
Различные финалы произведений акцентируют разное понимание каждым писателем проблемы общественного идеала.
У Плотникова, несмотря на подмену, настоящее Беловодье, народный подлинный идеал не уходит из поля зрения персонажей повести. В финале инок Иосаф обвиняет «маломощных» людей, которые «самое великое <…> продали за чечевичную похлебку», и призывает не покоряться ни царице, ни собственной слабости:
«Слышите, как бухает тысячный колокол? Это в Беловодье, а оно недалече. Вижу я незримыми очами эту страну <…>. Братья, кто не боится трудов великих, пойдем со мной в ту землю свободную. Мы найдем ее»26.
Многие, отринув земное, «снарядились в дальний путь»27. Троекратно повторенное слово «дальний» сменяется антитезой: «…человечество на путях к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому»28, — что, как нам представляется, призвано подчеркнуть, что если «дробный» идеал — коммунизм — все же, по мнению автора, воплотится в жизнь в недалеком будущем, то долгий путь к подлинному идеалу справедливой и праведной жизни еще впереди.
Повесть Иванова также заканчивается словами о мучительном и долгом пути, ожидающем людей:
«Мука-то не оттуда начинается, мука начинается с другого… Поживешь поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь, и поймешь»29.
Шишков в повести «Алые сугробы», не вводя образ нового пути, дает свой финал рассказу о поисках Беловодской земли. Настоящий общественный идеал — здесь, среди людей, которые открывают другим свою добрую душу:
«Двух коней тебе дам: все-равно зверь, все-равно ветер… Вот какой… На! Денга не надо… Помогать надо»30.
Однако и Шишков неслучайно на страницах повести подчеркивает несовершенство людей, стремящихся к совершенному идеалу. Намеком на гибельное вмешательство земных страстей и грехов звучат слова Афони в середине повести:
«— Я все думаю. Деды-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали, не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти, ан нет, лукавый сомустил, грех вышел, перегрызлись деды, и прощай, земля святая, идут назад ни с чем»31.
Еще один вариант понимания проблемы предлагает Платонов в рассказе «Иван Жох». Правнук Ивана Жоха в 1919 г. отправляется к генералу Деникину «драться с красными». Избранный им путь тоже вроде лежит к истинному идеалу, и на вопрос «за что драться?» Кузьма Сорокин отвечает: «За веру, за Вечный Град, за тишину истории»32. Однако этот путь ведет в тупик: Сорокина убивает «таманский командир в камере армавирской тюрьмы в 1920 году»33. Путем насилия и убийства, как показывает автор, прийти к «абсолютному» идеалу невозможно.
Сопоставляя произведения 1920-х гг. с беловодской тематикой, отметим их важную черту: причины того, что герои не достигают истинного Беловодья, писатели Плотников, Шишков, Платонов и Иванов склонны искать в людях, которые не умеют и не ставят себе целью жить праведно, сохраняют в душах старые страсти и помыслы, не останавливаются перед пролитием крови. Лишь в повести «Золотой клюв» помимо внутренних причин: «А жить умели, скажешь? Лад, скажешь, был крепкой?»34 — огромное значение имеют внешние обстоятельства и внешние враги — начальство Колыванских заводов, богатые люди, «дворяне, купцы, попы»35. В последней главе повести, «Предтечи будущих веков», проводится параллель между прежними, неудачными попытками народа обрести счастливую жизнь и новым, пореволюционным временем. Караваева убеждена, что достижение общественного идеала зависит лишь от переустройства социума: когда «тучей» пойдет «народушко» и «лиходеи»36 будут разбиты, когда «будем все хозяева», «и жисть тогда будет правдишна-а»37. Плотников, Иванов и Шишков, как нам представляется, вслед за русскими философами видели, что все гораздо сложнее, что достижению подлинного, праведного общественного идеала предшествует долгий путь переустройства природы человека. Отметим также, что все они, в большей или меньшей степени, видели истинный идеал имеющим религиозную основу, не случайно центральным символическим образом всех произведений становится именно Беловодье.
Очевидно, что идеи и философов-космистов, и писателей, оказавшихся их единомышленниками, были признаны контрреволюционными и стали абсолютно неприемлемыми для новой государственной власти. Судьбы названных русских философов-космистов сложились трагически. В 1920 г. был арестован Муравьев — впоследствии возвращенный на службу, но вновь арестованный в 1929 г., он погиб в Сибири. В 1937 г. был арестован и расстрелян Сетницкий. Произведения указанных писателей, видимо в силу того, что идеи их преподносились в художественной форме, либо не были напечатаны (повесть Плотникова), либо подверглись жесткой критике.
Писатели 1920-х гг. по-своему рассмотрели выдвинутые русскими философами-космистами идеи, однако они были близки в главном. Эта близость сказалась как в стремлении объединить социальную правду с правдой религиозной, приблизить несовершенный идеал социализма и коммунизма к подлинному «абсолютному» идеалу, так и в понимании того, что несовершенная природа человека вряд ли сделает возможным воплотить в жизнь созданный ими утопический идеал.
№ 3 (46). С. 171–184 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu . ru/kultura-i-tekst-2021-3-46 (01.09.2023). DOI: 10.37386/2305-4077-20213-171-184. EDN: TAQQKN
Список литературы Беловодский сюжет русской прозы 1920-х гг.: философский контекст утопического идеала
- Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала ХХ века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2005. 304 с.
- Богумил Т. А. Беловодье: легенда, мифологема, бренд // Культура и текст. 2018. № 3 (34). С. 89–102 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2018/11/a07.pdf (01.09.2023). EDN: YOLFYT
- Богумил Т. А. Алтай в биографии и творчестве В. Я. Шишкова («Алые сугробы») // Имагология и компаративистика. 2020. № 13. С. 128–140 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/altay-vbiografii-i-tvorchestve-v-ya-shishkova-alye-sugroby?ysclid=loa6ww43 2z310946289 (01.09.2023). DOI: 10.17223/24099554/13/8
- Гачева А. Г. Валериан Николаевич Муравьев // Муравьев В.Н. Сочинения. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 3–43.
- Гачева А. Г. «Крест над вьюгой»: философ Александр Горский — о поэме Александра Блока «Двенадцать» // Литературный факт. 2018. № 7. С. 197–256 [Электронный ресурс]. URL: https://litfact.ru/images/2018-7/LF-2018-7_197-256_Gacheva.pdf (01.09.2023). DOI: 10.22455/2541-8297- 2018-7-197-256
- Гачева А. Г. Человек и история в зеркале русской философии и литературы. М.: Водолей, 2021. 700 с. (Сер.: Русская литература и философия: пути взаимодействия; вып. 5.)
- Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: период феодализма. М.: Наука, 1977. 335 с.
- Ковтун Н. В. Беловодский метатекст в современной русской прозе (К постановке проблемы) // Сибирская идентичность в зеркале литературного текста: тропы, топосы, жанровые формы XIX–XXI веков / отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта: Наука, 2015. С. 153–189. (Сер.: Универсалии культуры; вып. VI.)
- Неизвестный Всеволод Иванов: материалы биографии и творчества / отв. ред. Е. А. Папкова. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 784 с.
- Папкова Е. А. «Беловодье» Михаила Плотникова: русская литература 1-й трети ХХ в. в поисках крестьянского рая // Сибирские огни. 2011. № 4. С. 133–139 [Электронный ресурс]. URL: https://www.sibogni.ru/content/belovode-mihaila-plotnikova-russkaya-literatura-1-y-treti-xx-vv-poiskah-krestyanskogo-raya (01.09.2023). EDN: VUEUSB (а)
- Папкова Е.А. Идеи Фёдорова в мировоззрении и творчестве Вс.Иванова // Литературоведческий журнал. 2011. № 29. С. 196–206 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/idei-fyodorova-v-mirovozzrenii-i-tvorchestve-vs-ivanova/viewer (01.09.2023). (b)
- Папкова Е. А. Исторический и литературный контексты повести Всеволода Иванова «Бегствующий остров» // Культура и текст. 2021. № 3 (46). С. 171–184 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu.ru/kultura-i-tekst-2021-3-46 (01.09.2023). DOI: 10.37386/2305-4077-2021- 3-171-184. EDN: TAQQKN
- Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов: поэтика — видение мира — философия. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. 590 с. EDN: TOVVJZ
- Семенова С. Г. Юродство проповеди: метафизика и поэтика Андрея Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2020. 624 с. DOI: 10.22455/978-5-9208- 0606-2
- Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социальноутопических легенд). СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 540 с.