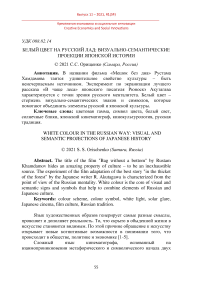Белый цвет на русский лад: визуально-семантические проекции японской истории
Автор: Орищенко С.С.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 1 (34) т.11, 2021 года.
Бесплатный доступ
В названии фильма «Мешок без дна» Рустама Хамдамова таится удивительное свойство культуры - быть неисчерпаемым источником. Эксперимент по экранизации лучшего рассказа «В чаще леса» японского писателя Рюноскэ Акутагава характеризуется с точки зрения русского менталитета. Белый цвет - стержень визуально-семантических знаков и символов, которые помогают объединить элементы русской и японской культуры.
Цветовая гамма, символ цвета, белый свет, солнечные блики, японский кинематограф, кинокультурология, русская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/142231813
IDR: 142231813 | УДК: 008.82.14
Текст научной статьи Белый цвет на русский лад: визуально-семантические проекции японской истории
Язык художественных образов генерирует самые разные смыслы, проясняет и дополняет реальность. То, что скрыто в обыденной жизни в искусстве становится видимым. По этой причине обращение к искусству открывает новые когнитивные возможности в понимании того, что происходит в обществе, политике и экономике [1-5].
Сложный язык кинематографа, основанный на взаимопроникновении метафорического и символического начала двух
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations культур: японской и русской, освоен режиссёром Рустамом Хамдамовым. Он снял кинокартину «Мешок без дна» по рассказу «В чаще леса» японского писателя Рюноскэ Акутагавы, и из «чужой» истории создал «свою», родную, узнаваемую, глубинную. Язык кинокультурологии помогает осознать, как это возможно сделать. Для нас привычно, когда при экранизации литературного произведения фильм получает то же название, что и прототип. Среди исследуемых нами фильмов: «Солнечный удар» по рассказу Ивана Бунина (режиссёр Н. Михалков) [6, с. 526-534], «Поп» по роману Александра Сегеня (режиссёр В. Хотиненко) [7, с.695-701; 8, с.81-86], - тому прямое подтверждение. Если в кинематографе используется классическая тема, но осмысливается она на современном материале, то возможны разного вида отзеркаливания в названии, такие как «Дама пик» (режиссёр П. Лунгин) [9, с.69-71]; сравните с повестью «Пиковая дама» Александра Пушкина. Есть и третий вариант названия фильмов, в которых авторы меняют название кардинально, не соотносят его с первоисточником. В них, без специальных сносок в титрах, не всегда можно разглядеть даже намёк на отправную точку - литературное произведение. Фильм «Мешок без дна» назван Рустамом Хамдамовым как раз по третьему типу.
В основу интерпретации японского рассказа на русский лад легла удивительная по красоте, точности, лаконичности и философичности мысли фраза: «Если бы не было сказок, то чем бы мы защитились от жизни?» Фразеологизм принадлежит Рустаму Хамдамову. Так в фильме возникает образ русского князя, переживающего депрессию, из-за покушения на его родных. Защитная реакция крепко выпивающего человека требует присутствия рядом кого-то, с кем возможно общение. Если собеседник может разделить с ним досуг, выразить понимание состоянию князя, при этом обладает интуицией, может истолковать внутренние переживание хозяина, то такому собеседнику нет цены. Вернее, цена назначена: пятьдесят рублей за одно убийство! Князь желает слушать сказки о страшных злодеях, совершающих преступления, очевидно для того, чтобы осознать, что эти переживания не причинят ему настоящей боли, ведь он находится в безопасности: одно или два убийства его психика и кошелёк способны выдержать, не соотнося ситуацию с собственной судьбой (недавно от теракта погибла его мать). Фрейлина вызывает для общения с князем удивительную рассказчицу, умеющую держать нос по ветру. Чтица является одновременно и любопытной Варварой, и впечатлительной Кассандрой,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations и участницей событий, бывших когда-то давно, похожей на Царевну Несмеяну. Искусственный нос, который героиня везде суёт, является проводником, антенной (собаки лают, ветер носит), доставляет ей точную информацию, что и поражает слушателя, хозяина дворца, и зрителей. Она держит в сумке три свёрнутые пакетика, похожие то на нос Буратино, то на рог единорога, то на клоунский колпак. Скорее всего, сказочница (актриса Светлана Немоляева) и примеряет эти три маски, и выполняет функции, им свойственные, чтобы поддержать интерес к рассказанной истории, которой нет ни конца, ни края. Нос имеет свойство проникать сквозь время и пространство, то проткнув шпалеры на стене, то вознесясь по ступеням лестницы, поближе к источнику света, то снова разместившись в бездонной сумке рассказчицы. Ей, для того чтобы быть оригинальной, достаточно двух красок: чёрной и белой, чтобы разграничить молодость от старости, страдание от удовольствия, низ от верха, будущее от прошлого, бессознательное от сознательного, правду ото лжи.
Рассказчица, слушатель, и те, кто подсматривает за ними, отсутствуют в повествовании Рюноскэ Акутагавы. Они - «чужие» для текста японского писателя. Они - кинематографическая реальность, созданная Рустамом Хамдамовым. Кроме них в фильме есть и другие персонажи, отсутствующие в рассказе. Это грибы, медведь, отшельник, ведьма, прислуга во дворце, адъютанты, фрейлина, крестьянка и её дети. Кстати, такая вольность стала возможной, поскольку в детективной истории все действующие лица обращаются к «судейскому чиновнику» , ему рассказывают о своём приключении, но сам персонаж с вопросами и оценками речи героев отсутствует в повествовании. В русской версии появляются те, кто постоянно оценивает происходящее и примеряет события, бывшие с кем-то давно, на себя сегодняшнего. Кроме того, у преступления, произошедшего далеко в лесу, есть масса свидетелей, что подтверждает мысль о том, что сколько верёвочке не виться, конец всегда найдётся. И только стражник, разбойник, супружеская пара сохранены и в рассказе, и в киноповествовании. Здесь необходимо отметить, что дровосека, старухи - матери героини, в киноповествовании нет.
Помимо этого, японская и русская версии сближаются на уровне восприятия белого цвета. В философии принято считать, что двух цветов: черного и белого, достаточно для описания мира в целом. В связи с этим возникает вопрос: возможна ли практическая ориентация в нем? Есть мнение, что в природе цвета не существует вообще. Цвет
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations возникает только в момент нашего восприятия, это наше ощущение, основанное на ассоциациях разного порядка: временного, пространственного, эмоционального, душевного, возрастного. Другие живые существа, возможно, видят мир совсем в других цветах, не так, как мы. Рустам Хамдамов решает задачу не из лёгких. Это не только отправка во времени, в глубину веков, за границы истории, это исследование общих культурных кодов: японского и русского. «Там русский дух, там Русью пахнет». Значение слова Русь, в том числе, – светлое место, отсюда русые волосы, как светлый оттенок.
Белый цвет становится проводником между русской и японской культурой. Ровно настолько, насколько противоположны культуры Японии и России, противоположны и ассоциации, рождаемые от восприятия цвета. «Свои и чужие» в цвете действуют изнутри. Так в белом совмещается невинность и смерть; в чёрном, как антагонисте белого, траур и секс. Метафизическое понимание белого цвета отягощается разными компонентами: мифологическими и религиозными. Материалистический взгляд определяется житейским опытом: белый – снега и туманы; чёрный – недра земли. Кроме этого, обыденный опыт при восприятии цвета дополняется и эстетическими воззрениями, в которые часто включаются иносказательные элементы ассоциаций: метафоры, символы, аллегории, оксюморон.
Интересно сближение белого и чёрного цвета в геральдической символике смыслов. Серебро и жемчуг характеризуют геральдические знаки белого цвета, и алмазы чёрного. Отсюда такое обилие украшений у русской Царевны из белых камней. Чистота, невинность, мудрость, безмятежное состояние души белого цвета вполне соотносятся с постоянством, скромностью, смертью, трауром и миром, похожим на покой, чёрного. Таким образом, черно-белый фильм Рустама Хамдамова снят не случайно. За скупостью цвета можно различить всё многообразие смыслов, накопленных человечеством от философских изысканий Платона и Аристотеля, до сентенций П. Флоренского, П. Сорокина и А. Лосева.
Оригинальность детективного рассказа «В чаще леса» японского писателя Рюноскэ Акутагавы заключается в том, что в повествовании несколько раз пересказывается один и тот же сюжет от начала до конца разными зрителями, видевшими этот эпизод своими глазами, включая участников схватки. Каждый из участников событий утверждает, что именно он является убийцей. Для русской сказочной культуры это не приемлемо, чтобы герой совершил самоубийство. Эта история ближе
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations японской культуре (сословие самурая - презрение к смерти). Рустам Хамдамов, понимая, что в русской интерпретации такое вряд ли возможно, создаёт новый сюжет, обрастающий удивительными подробностями, использует в фильме сказочные элементы, основанные на повторяемости ситуации. Зрителю легко соотнести приём со сказкой про белого бычка, основанной на повторе, способной продолжаться бесконечно долго, пока не надоест её слушать. Этот ход помог соединить в сознании Рустама Хамдамова японский текст детектива с русской сказкой об убийстве царевича. Повторы в сюжете часто ассоциируются со сказочными элементами. Чаще всего они касаются времени: долго ли коротко ли, жили-были, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; и образов, связанных с русскими народными сказками: медведя, грибов, ведьмы, царевны, крестьянки с детьми, монаха-отшельника, похожего на лешего.
Итак, нас интересует белый цвет в фильме «Мешок без дна», поскольку он является антитезой к названию фильма, ведь дно, не имеющее границ, ассоциатируется с чёрным цветом, с неизведанным, нескончаемым, непостигаемым. Тем ценнее присутствие белого цвета в «Мешке без дна». В «мешке культуры», поистине бездонном источнике, из которого можно черпать и черпать. В фильме Рустама Хамдамова использование белого цвета, как символа начала бытия, проявляющегося в разных ипостасях, завораживает [10, с.138-143]. Его знаки не менее притягательны, нежели чёрная бесконечность дна. Белый цвет необыкновенно созидателен, он всегда сопровождается мыслями о лучшей доле, будущем, наполненном счастьем.
Не случайно свадебный наряд невесты, который легко сравнить с цветом лебединого крыла, присутствует в русской культуре. Но белый цвет, как цвет, принадлежащий Божественной мудрости, несёт в себе помимо счастья и тепла ещё и уверенность в благополучном исходе после земной жизни. Не случайно многие пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывают о нескончаемо длинных белых коридорах, проходя сквозь которые, человек ощущает тепло и умиротворение в ином пространстве, откуда не торопится возвращаться назад. Не случайно в русской поэтической традиции столько создано уникальных строк о цветущих садах. Белый цвет и в японской культуре значит очень многое. Достаточно вспомнить такие детали, как цвет флага этой страны, белое праздничное кимоно, и кимоно любого цвета, вышитое белыми цветами и птицами. Визуальные проекции белого цвета в японской культуре приравнены к императорскому, божественному,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations священному. Кроме тог, белый цвет символизирует небытие и смерть. В русской и японской традиции белый цвет – цвет невесты, символизирующий духовную и физическую невинность и чистоту избранницы. Точно так чёрный цвет в Японии принадлежит воинам и мужчинам, сочетающимся браком. Значит на уровне цвета символические знаки в русской и японской культуре совпадают, и тем ценнее выбор Рустама Хамдамова. Он смог кардинально переосмыслить японский текст и предоставить зрителям его русскую интерпретацию, не растеряв ценности первоисточника.
Белый цвет определил отказ режиссёра от цветного фильма. Фильм снят на чёрно-белую плёнку. Выбор Рустама Хамдамова не случаен. Предметный мир фильма сказочно богат, он играет всеми красками. Он не просто присутствует в киноповествовании, а нагружен символическими кодами, тяготеющими к знакам. Каждый из них концептуален, поскольку требует от зрителя интерпретации. Перечислим лишь некоторые из них. Белые косы царевны (порода, исключительность), белая рубаха (символ счастливого рождения), белая накидка на рассказчице (принадлежность к привилегированному классу), шкура белого медведя (экзотика; медведь – добродушие и ярость, богатырская сила и неуклюжесть, обжорство и нежные материнские чувства, смелость, мужество, величие, решимость, предусмотрительность), агнец (невинная жертва), белая грива коня (богатырский конь Добрыни Никитича), прозрачные птицы (символ духа и души, воздуха, ангела), яичные скорлупки (познание глубины истины, знак промежуточности, сакральное знание), паутина (символ связи, ветхости и тщеты, системы коммуникаций), нити жемчуга (избранничество и красота, ассоциируется со слезами ангелов, оплакивающих грехи человеческие, символ знатного происхождения, символ целомудрия), муфта (символ тепла, заботы, социального благополучия), облака (один из символов второго пришествия), фата (невинность, непорочность, девственность), вуаль (символ целомудрия), белый цветок (непорочность), белое платье (невинность), платок-паутинка (достойная старость), скатерть (добрая дорога), мел (символ твёрдости духа и уверенности в своих убеждениях) , белые фигурки шахмат (свободная воля и разумное отношение к судьбе; свет, день, ясность, солнце), лампы (символ света и поиска истины), зеркало (символ связи нашего мира с параллельным), берёзы (символ земли русской, девственность, невинность, чистота, белизна), собаки (символ верности и служения), бледные поганки (аристократка в шляпке и
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations перчатках), шары (символ будущего, знак промысла, провидения, вечности, власти и могущества коронованных особ). Список можно продолжить при желании. Каждый из перечисленных элементов многозначен, каждому из них можно посвятить отдельную статью. Белый цвет в русской традиции как белый свет, то есть мир, пространство жизни, которое необходимо охранять, оберегать. Кинематографические образы будут постоянно напоминать зрителям о доминирующем белом цвете как источнике жизни и смерти.
Белый цвет, основополагающий в визуальной символике фильма, начиная с рядов кресел, покрытых белыми чехлами и заканчивая белой аллеей, запорошенной снегом, созвучен с материальным миром России. Японское киноискусство, помимо нашего желания, периодически «вмешивается» в наше кинокультурологическое пространство, настолько оно бывает близко восприятию российского зрителя. Достаточно вспомнить кинокартину «Легенда о Нарайяме» Сёхэя Имамуры (1983), в которой мечта героини умереть под вальсирующие крупные снежинки исполнилась. Снег сыплет на кладбище, а героиня благословляет провидение, выстилающее её восхождение на небо, подобно паремиологическому выражению. Героине предстоит путь в загробный мир, он выстелен белым, чистым снегом, как скатертью дорога. Чтобы понять, насколько жизненные ценности японского народа близки русскому человеку, включая символику белого цвета, мы можем обратиться к фильму «Ушедшие» Йодзиро Такита (2008) [11, с.79-102]. В нём белый цвет также соотнесён с вечностью, со смертью, с божественным. Усопшие несут на лице маску жизни, окрашенную белилами, чтобы предстать перед всевышним в надлежащем, одухотворённом виде. Трепетное отношение к усопшим в Японии вновь напоминает нам о русской традиции, зафиксированной в народной мудрости: о любви к отеческим гробам.
История в японском рассказе и русском фильме заканчивается убийством царевича, но при этом белый цвет остаётся первопричиной визуального кинопространства, не запачканный кровавыми подробностями. Вместе с тем, отсутствие цвета не делает восприятия кинокартины суженным, безрадостным, блёклым. Игра света и тени, присутствие солнечного цвета, блики во дворце, в лесу, скользящие по лицам, листьям, траве, небу, облакам, дарят спектр многоцветья. Как «Чёрный квадрат» Малевича вмещает в себя всю палитру красок и многообразие мира, так белый цвет у Рустама Хамдамова является
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations главенствующим и определяющим в фильме, как философское равновесие между жизнью и смертью, между «своими и чужими».
Каждый кадр так художественно выстроен, что белый цвет всегда присутствует в нём. Кроме чисто-белого цвета в фильме много светящихся предметов, что тоже напоминает о белом цвете. Зеркальные отражения убранства дворца, в основе которого интерьер белого цвета: статуи, кафельные печи, двери, шторы, светильники. Это множественные фонари, люстры, огонь в камине, солнечные зайчики, то есть разнообразные источники света, замещающие цвет, подобно метафоре белого, знаковой замене. За каждым из указанных предметов стоит ряд литературоведческих, искусствоведческих, философских реминисценций, которые подчёркивают неиссякаемость источника, из которого черпает Рустам Хамдамов. Белый цвет и цвет бликов солнца находятся в постоянном взаимодействии. Солнечные зайчики перемещаются по лицам персонажей, подчёркивают красоту листвы, оружия, предметов. Зеркальные отражения в замке переходят зеркальную мистерию озера. Недвижимая поверхность воды дважды загадывает загадки для зрителя. Сначала в ней плавает голова-поплавок разбойника, которую венчает сабля. Отсутствие движения на воде без кругов, подчёркивает, что голова давно покинула плечи разбойника и самостоятельно существует в ином пространстве. И лишь опасность «оживляет» разбойника, он решает по привычке бороться за свою жизнь, правда при этом отказывается от оружия. Нелогичность его поведения близка русской скоморошьей традиции. В русском кинематографе она запечатлена в фильмах «Нескладуха» (1979) и «Небывальщина» (1983) Сергея Овчарова. Во второй раз зритель увидит на озере главную героиню, желающую утопиться. Она так долго собирается совершить преступление против себя, что начинает раздваиваться в своём желании жить или умереть. Эта сцена так потрясает, что до конца трудно понять: утонула героиня или вознеслась. Это сомнение рождает спор между князем и чтицей.
Белый цвет в фильме художника подобен чистому листу, tabula rasa. История начинается с чистого белого платка, разложенного на столе, что, по определению князя, подчёркивает в собеседнице черту, свойственную педантичным немцам – порядок. Собеседница даёт отрицательный ответ и обнаруживает в себе способность изрекать философские сентенции. По её мнению, белый платок помогает бороться с внутренним хаосом, то есть белый платок противопоставлен внутренним монстрам, «чужим» внутри себя, которые не дают покоя не
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations только рассказчице, но и слушателю, князю, которого она развлекает. Фрейлина привыкла к присутствию тёмного начала в себе, и даже нашла способ, как усмирять «чужих» в себе: делиться со слушателями своими историями или меняет накидки и боа, то чёрные, то белые. До этого сказочница находилась в зале ожидания, заставленного стульями, покрытыми белыми чехлами, как саваном. Холодно и неуютно выглядела эта приёмная, в которой стулья напоминали белые торосы, вздыбленные, застывшие волны в житейском море дворца. Путь к апартаментам князя лежал через анфиладу комнат, на окнах которых висели белые шторы. Белая высокая причёска гостьи напоминала форму светильников во дворце.
Каждый, вступающий в роль очевидца драматических событий, имеет право поделиться своим углом зрения на произошедшее. Кроме этого, князь и чтица соревнуются в предсказаниях и предположениях о подробностях истории, которая их не отпускает. Конечно, гостью переговорить невозможно, настолько она мастер своего дела. Она не только прекрасно рассказывает, но и постоянно показывает происходящее. Её волшебная сумка, в которую вмешаются её истории, как мешок без дна, в котором собраны приключения всего мира, всего белого света. Князь всё время находится в возбуждённом состоянии, его интерес к повествованию не ослабевает ни на минуту, хотя периодически он прерывает историю, произошедшую в чаще леса, чтобы найти ответы на волнующие его вопросы сегодняшнего дня. Даму не сбивает такая бесцеремонность. Она может позволить себе подпитаться новой информацией, исходящей от живого огня камина и тёплой шкуры белого медведя. Как будто каждая искорка в очаге, каждая ворсинка медвежьего меха действует как антенна, передающая необходимую информацию для хозяйки положения. Кроме того, её жемчужные слёзы после сеанса с князем говорят о том, что она была так убедительна ещё по одной причине: она являлась участницей тех событий, о которых рассказывала. Подсказка - бриллиантовая брошь в прическе героини, которую в молодости она носила под косами: «И месяц под косой блестит». Не случайно Рустам Хамдамов показывает нам участницу событий в образе Царевны-Лебедя из сказки А.С. Пушкина. Отсюда её убеждённость в своей правоте, отсюда вновь пережитое прошлое, которое настолько потрясло героиню при воспоминании, что она стала предсказательницей, «десятиголовой» , по словам князя.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Список литературы Белый цвет на русский лад: визуально-семантические проекции японской истории
- ДеБласио, Алисса. Философ для кинорежиссёра. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф / А. ДеБласио. С.Пб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. 272 с.
- Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то что смотрит на нас. СПб: Наука, 2001. 296 с.
- Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода и символах спасения // В сборнике: Национальное культурное наследие России: региональный аспект VI Всероссийская научно-практическая конференция в рамках VII Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца имени Геннадия Власенко. Самара: СГИК, 2018. С. 17-25.
- Ионесов В.И. О культурных основаниях экономики и современные тренды, противоречия, взаимосвязи /В.И. Ионесов // В сборнике: Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры Материалы IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Под редакцией С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК, 2016. С. 126-139.
- Ионесов В.И. Культурная политика как стратегия преобразований: опыт, интенции, манипуляции /В.И. Ионесов //В сборнике: Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры Материалы IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Под редакцией С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК, 2016. – С. 52-69.
- Орищенко С.С. Отражение русской революции в кинематографе: от «Окаянных дней» И. Бунина до «Солнечного удара» Н. Михалкова. / Память о прошлом – 2017: VI историко-архивный форум, посвящённый 100-летию революции 1917 года в России. (Самара 18-20 апреля 2017г.) Материалы и доклады: сб. ст. / сост. О.Н. Солдатова (отв. сост.) Г.С. Пашковская. Самара: ООО «Научно-технический центр», 2017. С. 526-534.
- Орищенко С.С. Слово в фильме Владимира Хотиненко «Поп». / С.С. Орищенко // Известия Самарского научного центра РАН. Самара: Самарский центр РАН, 2014. Т. 16, № 2 (3). С. 695-701.
- Орищенко С.С. «Поп» Александра Сегеня и Владимир Хотиненко: осмысление взаимодействия православия и современного кинематографа в постижении культурных смыслов / С.С. Орищенко // Литература на экране: взгляд психологов, писателей и кинематографистов. Материалы Международной научной конференции. Психологический институт РАО, Литературный институт имени А.М. Горького. 6-7 декабря 2016 г. / Под общ. ред. Н.Л. Карповой; редколл.: А.А. Мелик-Пашаев, Н.А. Борисенко, А.А. Голзицкая. М.: ПИ РАО, 2016. С. 81-86.
- Орищенко С.С. «Дама Пик» Павла Лунгина как «суггестивное поле» современного кинематографа или «грамматический перевёртыш» к произведению Александра Пушкина «Пиковая дама». / С.С. Орищенко // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. Самара: Самарский научный центр РАН, 2018. Т.20. № 1 (58). С. 69-71.
- Орищенко С.С. Феномен русского кино в языковом символизме и художественных образах //. «Наука и культура России», Международная научно-практическая конф. (2018; Самара). XV Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России», 29–30 мая 2018 г. [Текст]: [посвящ. Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: материалы] / редкол.: Д.В. Железнов [и др.]. Самара: СамГУПС, 2018. – 324 с. С. 138-143.
- Орищенко С.С. Маски смерти в современном кинематографе: к интерпретации фильмов Кирилла Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие» / С.С. Орищенко // Электронное научное периодическое издание «Креативная экономика и социальные инновации». 2015. Выпуск 5 №3 (12). С. 79-102.
- Орищенко С.С. Многомерность и вариативность православной дороги как системы коммуникации в отечественном кинематографе / С.С. Орищенко // В сб.: Парадигма культурных изменений: от фрагмента к целому. Под ред. В.И. Ионесова. Самара: СГИК, 2017. С. 208-234.
- Салахиева-Талал Татьяна. Психология в кино: Создание героев и историй / Татьяна Салахиева-Талал. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 349 с.