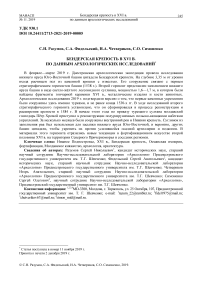Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований
Автор: Разумов С.Н., Фидельский С.А., Четвериков И.А., Симоненко С.О.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
В феврале-марте 2019 г. Днестровская археологическая экспедиция провела исследования нижнего яруса Юго-Восточной башни цитадели Бендерской крепости. На глубине 3,35 м от уровня входа расчищен пол из каменной крошки с известью. Его сооружение связано с первым стратиграфическим горизонтом башни (1538 г.). Второй горизонт представлен заполнением нижнего яруса башни в виде светло-жёлтого лессовидного суглинка, мощностью 1,6-1,7 м, в котором были найдены фрагменты гончарной керамики XVI в., металлические изделия и кости животных. Археологические исследования 2019 г. подтвердили версию о том, что первые каменные укрепления были сооружены здесь именно турками, и не ранее конца 1530-х гг. В ходе исследований второго стратиграфического горизонта установлено, что он сформировался в процессе реконструкции и расширения крепости в 1584 г. В начале этого года по приказу турецкого султана молдавский господарь Пётр Хромой приступил к реконструкции полуразрушенных польско-казацкими набегами укреплений. За несколько месяцев были сооружены внутренний ров и Нижняя крепость. Суглинок из заполнения рва был использован для засыпки нижнего яруса Юго-Восточной, и вероятно, других башен цитадели, чтобы укрепить их против усилившейся осадной артиллерии и подкопов. В материалах этого горизонта отразились новые тенденции в фортификационном искусстве второй половины XVI в. на территории Северного Причерноморья и соседних регионов.
Нижнее поднестровье, xvi в, бендерская крепость, османская империя, фортификация, молдавское княжество, археология, архитектур
Короткий адрес: https://sciup.org/14118201
IDR: 14118201 | УДК: 930.1 | DOI: 10.24411/2713-2021-2019-00005
Текст научной статьи Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований
Бендерская крепость является выдающимся памятником истории и архитектуры XVI—XIX вв. Она располагается на высоком правом берегу нижнего течения Днестра в пределах г. Бендеры Приднестровской Молдавской Республики. Среди всех турецких крепостей Северного Причерноморья она выделяется хорошей сохранностью фортификационных сооружений. Объясняется эта особенность не только «везением» в виде отсутствия сильных разрушений в ходе многочисленных войн, но и тем, что с момента постройки вплоть до начала XXI в. крепость являлась закрытым военным объектом. Лишь в 2007 г. на территории цитадели, Нижней крепости и казарм понтонного полка был создан Исторический военно-мемориальный комплекс (Вилков и др. 2018: 108). Таким образом, в отличие от многих других памятников фортификации региона, она избежала участи превращения в источник бесплатных стройматериалов для местных жителей. Впрочем, закрытость объекта имела и негативные последствия — невозможность археологических исследований, которые могли бы пролить свет на время и «авторство» постройки, уточнить строительную периодизацию памятника. Следует отметить, что, вопреки мнению А.В. Красножона о полном отсутствии археологических исследований Бендерской крепости (Красножон 2018: 28), таковые проводились И.Г. Хынку в 1969 г. (Полевой, Бырня 1974: 84; Şlapac 2004: 104) и Н.В. Гольцевой в 1990 г. (Гольцева 1990: 1). Однако эти раскопки были
МАИАСП № 11. 2019
Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований крайне ограничены по площади, а результаты их остались неопубликованными. К тому же, древнейшая часть крепости — замок (цитадель) — раскопками вообще не была затронута. Таким образом, противоречащие друг другу версии о том, кто же именно его построил (галицко-волынские князья, генуэзцы, литовцы, господари Молдавского княжества, татары или турки) и когда (в XIII, XIV, XV или в XVI в.) (Şlapac 2004: 27; Аствацатуров 2007: 8—10; Вилков и др. 2018: 12; Красножон 2018: 115) — были лишены археологической аргументации. Впервые археологические раскопки на территории цитадели Бендерской крепости состоялись лишь в 2019 г.
Днестровская археологическая экспедиция Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в феврале-марте 2019 г. провела исследования ЮгоВосточной башни цитадели в связи с необходимостью музеефикации данного объекта.
Следует пояснить, что в настоящее время крепостной ансамбль состоит из трёх частей. Наиболее ранней является цитадель (первоначально — замок) в форме неправильного четырёхугольника размерами 84 × 101 × 75 × 101 м, с восемью башнями по периметру (рис. 1, 2: 1—3 ), построенная в конце 30-х гг. XVI в., что подтвердилось нашими исследованиями. Позднее, в 1584 г., на второй береговой террасе, под цитаделью, была сооружена Нижняя крепость площадью 1,1 га (рис. 1, 2). Внешняя (Большая) крепость площадью 62,35 га, ограниченная бастионным фронтом, была построена на верхнем береговом плато в начале XVIII в. (Аствацатуров 2007: 44; Красножон 2018: 141).
Юго-Восточная башня цитадели, ближайшая к переправе, базируется на невысоком многоугольном цоколе. В плане она имеет форму круга со срезанным (со стороны двора, с северо-запада) сегментом (рис. 3—5). Общий диаметр башни составляет около 12 м, толщина стен до 2,5 м, высота 13 м (без учёта крыши). В башне в настоящее время имеется четыре яруса. Нижний ярус, исследованный в 2019 г., входа и бойниц не имеет. Вход во второй ярус осуществляется со двора (первоначально имел наружную лестницу, поскольку уровень двора был ниже на 1,5—2 м). На третий ярус ведёт вход с боевого хода куртины. Каменная круговая лестница с третьего яруса ведет на верхний, четвёртый, с мерлонами по периметру. В стенах второго яруса были сооружены пять сводчатых артиллерийских бойниц, в стенах третьего — четыре бойницы и один камин (рис. 4—5).
К началу раскопок нижний ярус был заполнен практически до уровня современного входа со стороны двора цитадели. Следовательно, в процессе раскопок пришлось удалить около 200 м3 заполнения. В ходе исследований было выделено пять стратиграфических горизонтов. Два наиболее ранних связаны с сооружением и первым периодом функционирования башни в XVI в.
Третий горизонт датируется последней четвертью XVIII в. Повреждённые пушечные ядра и гранаты из чугуна, следы пожара указывают на последствия осады и штурма крепости российской армией в 1770 г. Перестройка нижнего яруса башни была частью масштабной реконструкции крепости турками под руководством французских инженеров в 1793—1794 гг. Сооружённые в это время мощные радиальные «контрфорсы» и центральный «столб», сложенные из массивных плит и кусков известняка (рис. 5—6), должны были удерживать мощное деревянное перекрытие и винтовую лестницу (Разумов и др. 2019: 7—10).
Формирование четвёртого горизонта связано с событиями Бендерского вооружённого восстания против румынских и французских интервентов 27 мая 1919 г. (Зайцев 1971: 50— 76) Многочисленные гильзы от патронов для винтовок Лебеля, Манлихера и Мосина свидетельствуют о ведении солдатами гарнизона огня из бойниц верхних ярусов. Обломки зарядных ящиков, конская упряжь остались от склада воинского имущества, находившегося в нижнем на тот момент ярусе башни до пожара, возникшего в результате артобстрелов с
С.Н. Разумов, С.А. Фидельский, И.А. Четвериков, С.О. Симоненко
МАИАСП № 11. 2019
левого берега Днестра (найдены части фугасных и шрапнельных трёхдюймовых снарядов). Сверху эти находки были перекрыты строительным мусором 1920—1930-х гг.
Материалы пятого горизонта показывают, что примерно с 1970-х – начала 1980-х гг. и до 1990-х гг. включительно Юго-Восточная башня цитадели использовалась военнослужащими Советской армии в качестве мусорной свалки.
Наша публикация посвящена анализу материалов из двух нижних стратиграфических горизонтов, содержащих информацию о ранней истории Бендерской крепости.
Итак, на глубине 3,35 м от уровня современного входа был расчищен пол нижнего яруса, залитый раствором из каменной крошки с известью (рис. 6—7). Его сооружение связано с первым стратиграфическим горизонтом , датированным временем строительства и начала функционирования башни (1538—1584 гг.). Вероятно, перед заполнением нижнего яруса суглинком в 1584 г. (см. ниже) из него было вынесено всё, представлявшее хоть какую-то ценность. Поэтому на полу были выявлены лишь мелкие обломки изделий из железа и меди:
-
1) фрагмент лезвия (острия) железного кованого ножа размерами 28 × 11 × 3 мм;
-
2) медное изделие (рис. 13: 10 );
-
3) фрагмент медной обивки деревянного (?) предмета в виде трапециевидной пластины с загнутым широким основанием размерами 64 × 35 × 0,3 мм;
-
4) гвоздь кованый железный размерами 32 × 7 × 6 мм, шляпка 14 × 13 мм (рис. 12: 2 );
-
5) стержень кованый железный размерами 35 × 7 × 3 мм (рис. 13: 8 );
Кроме того, были обнаружены морская раковина (рис. 13: 9 ) и немногочисленные фрагменты гончарной керамики (рис. 8), в том числе:
-
1) Фрагмент венчика сосуда из хорошо отмученной глины с примесью песка (рис. 8: 5 ). Тесто плотное, однородное светло-коричневого цвета. Поверхность фрагмента шероховатая, плохо обработана, особенно внешняя сторона. Ангоб отсутствует. Венчик выделен, отогнут наружу. Верхний его край ровный шириной 0,5 см. К верхнему краю венчика примыкала лентовидная ручка. Диаметр устья сосуда составил 24 см. Толщина стенки сосуда равна 0,4 см;
-
2) Фрагмент венчика мисковидного сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и блестящих частиц (рис. 8: 7 ). Тесто плотное, однородное светло-коричневого цвета. Поверхность неровная, шероховатая. Венчик выделен, верхний его край ровный, слегка отогнут наружу, шириной 1,2 см. Внутренняя сторона фрагмента и верхний край венчика были покрыты краской или лаком белого цвета (возможно, некачественная полива). Диаметр устья сосуда равен 24 см;
-
3) Фрагмент стенки сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и блестящих частиц (рис. 8: 3 ). Тесто плотное, однородное кирпичного цвета. Внутренняя и внешняя поверхность фрагмента ровная, хорошо заглажена. Ангоб отсутствует. На внешней стороне фрагмента зафиксировано место перехода от тулова к шейке, которое отчетливо выделено ребром. На это место приходится максимальный диаметр сосуда, который составил 13 см. Толщина стенки тулова и шейки равна 0,75 см;
-
4) Фрагмент венчика сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и шамота (рис. 8: 9 ). Тесто плотное, однородное серого цвета. Обжиг равномерный. Внутренняя и внешняя поверхность фрагмента светло-коричневого цвета с сероватым оттенком. Венчик выделен, отогнут наружу. Имеет закраину для крышки. Верхний его край заострен. Диаметр устья сосуда составляет 17 см. Толщина стенки 0,5 см;
-
5) Фрагмент стенки сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и белых частиц (рис. 8: 8 ). Тесто плотное, однородное, внутренняя и внешняя поверхность фрагмента,
МАИАСП № 11. 2019
Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований кирпичного цвета. Обжиг равномерный. На внешней стороне фрагмента зафиксированы каннелюры, расположенные горизонтально. Толщина стенки сосуда 0,4 см;
-
6) Фрагмент стенки сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и белых частиц (рис. 8: 10 ). Тесто плотное, однородное, внешняя и внутренняя поверхность фрагмента светло-серого цвета. Обжиг равномерный. На внешней стороне фрагмента зафиксированы каннелюры, расположенные горизонтально;
-
7) Фрагмент дна сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и белых частиц (рис. 8: 11 ). Тесто плотное, однородное светло-серого цвета. Обжиг равномерный. Внутренняя и внешняя поверхность фрагмента коричневого цвета с буроватым оттенком. Дно плитчатое, имеет закраину, диаметром 10 см и толщиной 0,6 см. Толщина стенки сосуда равна 0,7 см;
-
8) Фрагмент дна сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка и блестящих частиц (рис. 8: 12 ). Тесто плотное, однородное, как и внутренняя поверхность фрагмента, черного цвета. Внешняя поверхность фрагмента светло-серого цвета со следами некачественного обжига в виде темных пятен. Дно плитчатое, имеет закраину, диаметром 7 см и толщиной 0,4 см. Толщина стенки сосуда равна 0,7 см;
-
9) Фрагмент дна сосуда из хорошо отмученной глины с примесями песка, шамота и блестящих частиц (рис. 8: 13 ). Тесто плотное, однородное светло-серого цвета. Обжиг равномерный. Внутренняя и внешняя поверхность серого цвета. Дно плитчатое, имеет слабо выраженную закраину. На подошве зафиксированы следы среза ниткой. Диаметр дна составил 13 см, толщиной 0,8 см. Толщина стенки сосуда равна 0,6 см.
Подчеркнём, что некоторые фрагменты, найденные на полу, совмещались с фрагментами тех же сосудов, обнаруженными в нижней части второго стратиграфического горизонта. Следовательно, керамика, предварительно отнесённая к первому горизонту, может частично либо полностью относиться ко второму горизонту, где было обнаружено более 90% всех керамических изделий из раскопок 2019 г.
Также следует отметить, что в восточной части башни в пол был вбит под углом массивный железный кованый костыль, вокруг которого фиксировался древесный тлен.
Стены нижнего яруса башни были тщательно оштукатурены (рис. 7). Вероятно, в 1540— 1584 г. он использовался в качестве складского помещения.
На глубине 1,4 м от уровня входа (непосредственно под ним) в стене зафиксирована заложенная тремя вертикально поставленными известняковыми блоками ниша (рис. 7) либо окно размерами около 550 × 250 мм. Отметим, что на момент сооружения башни данное отверстие должно было располагаться немного выше уровня внутреннего двора. Возможно, первоначально оно служило для вентиляции и/или для загрузки и выгрузки припасов. Замуровано это отверстие было не позднее 1584 г. (см. ниже).
Второй стратиграфический горизонт представлен заполнением нижнего яруса башни в виде светло-жёлтого лессовидного суглинка, мощностью 1,6—1,7 м (рис. 6). В слое суглинка были найдены многочисленные фрагменты костей животных (домашняя птица, крупный и мелкий рогатый скот). Среди других находок выявлены:
-
1) отходы косторезного производства в виде корневой части кабаньего клыка с отпиленной сбоку пластиной (рис. 9: 3 ), размерами 70 × 28 × 20 мм;
-
2) кресальный кремень на пластинчатом отбивном отщепе, сырьё днестровское, светлосерое полупрозрачное, дорсальная поверхность окатана и патинирована, в дистальной части забитость (рис. 8: 6 ), размеры 28 × 25 × 3 мм;
-
3) обточенная дисковидная сланцевая галька (игральная фишка?) с углублением на одной из плоскостей (рис. 12: 5 ), диаметр 20 мм, толщина 8 мм;
С.Н. Разумов, С.А. Фидельский, И.А. Четвериков, С.О. Симоненко
МАИАСП № 11. 2019
4-7) гвозди кованые железные, (рис. 12: 1—2, 14—15 ).
Отметим также, что при исследовании Юго-Восточной башни цитадели Бендерской крепости в общей сложности было обнаружено 215 фрагментов керамических сосудов, изготовленных на гончарном круге (рис. 8—13), подавляющее большинство которых (более 90%) относится именно ко второму стратиграфическому горизонту. Следовательно, эта керамика попала в башню в процессе реконструкции крепости в 1584 г.
Анализ простой гончарной керамики показал, что большинство фрагментов относятся к горшкам различных форм. В качестве редкого исключения встречаются обломки одноручных кувшинов и мисок (рис. 9: 8 , 13: 1, 2, 7 ). В составе теста, как правило, присутствует мелкозернистый песок, а также белые (известняк) и блестящие (слюда) частицы. В основном обжиг равномерный и сквозной. В зависимости от режима обжига сосуды имели кирпичный, серый или чёрный цвет. К наиболее многочисленным находкам принадлежат фрагменты венчиков горшков, чаще всего с закраинами под крышку, а также доньев. Орнамент в основном представлен горизонтальными каннелюрами, которые располагались на плечиках сосудов. В единственном случае на внешней стороне стенки сосуда был зафиксирован орнамент, сочетавший штампованный узор и волнистые прорезные линии (рис. 9: 4 ).
Среди обнаруженной керамики встречаются фрагменты красноглиняной поливной посуды. В основном она представлена сосудами открытых форм (мисками), от которых сохранились фрагменты венчиков и доньев (рис. 13: 15 ). В единичном случае найден фрагмент ножки закрытого сосуда, возможно, кувшинчика или горшочка (рис. 13: 12 ). Керамическая посуда покрывалась как монохромной поливой (горчичного цвета), так и поливой, сочетавшей разные цвета в одном изделии (белый, коричневый и зелёный). На всех фрагментах полива нанесена на внутреннюю часть сосуда, а также на верхний край венчика миски.
Можно предположить, что разбитые сосуды попали в заполнение нижнего яруса башни в результате постепенного выхода из строя кухонной и столовой посуды, используемой для питания большого количества работников, отправленных сюда по приказу султана молдавским господарем Петром Хромым в 1584 г. (Красножон 2011: 247; 2018: 117). Поскольку второй стратиграфический горизонт представлен мощным слоем однородного светло-жёлтого лессовидного суглинка, очевидно, вынутого с глубины нескольких метров при выкапывании нового либо углублении существовавшего рва вокруг замка, находки из него можно считать синхронными. Весьма маловероятно, что они могли попасть сюда из более ранних культурных слоёв на территории крепости.
В результате анализа материалов из первого и второго стратиграфических горизонтов Юго-восточной башни нами были сделаны следующие выводы: 1) Никаких данных в пользу версии о том, что данная башня, как и остальные постройки цитадели, могла быть сооружена генуэзцами, как предполагают некоторые исследователи (Вилков и др. 2018: 12—15), в ходе раскопок получено не было; 2) Археологический материал, в первую очередь керамика, довольно однороден и укладывается в целом в рамки XVI в.; 3) Все имеющиеся материалы указывают на возведение каменного замка турками во второй четверти XVI в. Каменная кладка и пол нижнего яруса абсолютно однородны, сооружены единовременно, следов более ранних построек, перестроек не выявлено (рис. 7). При этом необходимо подчеркнуть, что способ кладки и параметры известняковых блоков аналогичны таковым в турецких фортификационных сооружениях конца XV-XVI вв., таких, как цитадели в Аккермане (Белгороде-Днестровском), Килии, и т.д. (Şlapac 2004: 151).
МАИАСП № 11. 2019
Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований
Отметим, что простые геометрические формы замков, фланкирующие высокие башни, выдвинутые далеко за пределы крепостных стен, сводчатые камеры для пушечных бойниц, длинные прямые куртины характерны для начального периода активного использования артиллерии для обороны укреплений (Косточкин 1962: 63—66; Чеботаренко 1964: 216; Яковлев 2000: 76; Носов 2002: 60—72; Пламеницька 2012: 212—213, 318). В СевероЗападном Причерноморье и соседних регионах крепостная артиллерия стала широко применяться лишь в XV в., а предназначенные специально для артиллерии укрепления распространяются уже к концу этого столетия (Пламеницька 2012: 212; Мисько 2012: 537). Замок в Бендерах, как и в Белгороде-Днестровском, не имеет никаких признаков генуэзской провинциальной крепостной архитектуры, примеры которой широко представлены в Крыму (Красножон 2012: 157). По итогам небольших раскопок И.Г. Хынку в 1969 г. с внешней стороны восточной стены цитадели также были сделаны выводы, что каменные укрепления здесь были сооружены не ранее первой половины XVI в. (Полевой, Бырня 1974: 84). План Бендерского замка полностью соответствует планам других османских крепостей конца XV—XVI вв., при этом кардинально отличаясь как от фортификаций Молдавского княжества XIV—XV вв., так и от польско-литовских замков (Şlapac 2004: 151—152; Красножон 2018: рис. 2, 46, 49). Здесь же следует заметить, что ни в грамотах молдавских господарей, ни в хрониках соседних государств, ни в записках путешественников XV в. укреплённый город либо крепость Тигина (молдавское название Бендер) ни разу не упоминается (Аствацатуров 2007: 10—11). Итак, наши раскопки свидетельствуют в пользу версии о том, что первые каменные укрепления были сооружены в Бендерах турками в конце 1530-х гг., что подтверждается и письменными источниками (Şlapac 2004: 27; Аствацатуров 2007: 38—39; Красножон 2018: 115—116).
Представленная коллекция гончарной керамики из Юго-Восточной башни цитадели находит ближайшие аналогии среди сосудов, выявленных при исследовании средневековых памятников Днестровско-Прутского междуречья. Прежде всего, это керамика, происходящая из городских центров Старый Орхей и Костешты, а также многочисленных сельских поселений указанной территории — Балцаты I, Пояна, Старые Малаешты и др. (Полевой, Бырня 1974: 60—62, рис. 21—24). В совокупности фрагменты гончарных сосудов из первого и второго стратиграфических горизонтов относятся к концу XV — началу XVII вв., что соответствует известным на сегодняшний день датировкам молдавской средневековой керамики (Чеботаренко 1964: 213; Бырня 1969: 197). Необходимо подчеркнуть, что абсолютное преобладание молдавской керамики в заполнении башни никак не может свидетельствовать в пользу того, что замок был сооружён именно молдавскими господарями. В данном случае перед нами ещё один факт, подтверждающий сведения письменных источников о том, что для постройки и реконструкции крепостей Северо-Западного Причерноморья Османская империя постоянно привлекала большое количество молдавских работников (Красножон 2011: 247; 2018: 30, 117), для питания которых использовалась найденная нами посуда.
Итак, второй горизонт следует датировать мартом—августом 1584 г., поскольку именно тогда по приказу турецкого султана подданные молдавского господаря Петра Хромого провели масштабную реконструкцию полуразрушенных польско-казацкими набегами укреплений (Красножон 2011: 247; 2018: 117). За несколько месяцев был выкопан (либо значительно увеличен) ров и построена Нижняя крепость, более эффективно прикрывающая переправу через Днестр (рис. 1, 2: 1—3 ). Лессовидный суглинок, вынутый при сооружении рва, был использован для засыпки нижнего яруса Юго-Восточной, и, вероятно, других башен
С.Н. Разумов, С.А. Фидельский, И.А. Четвериков, С.О. Симоненко
МАИАСП № 11. 2019
цитадели. Цель такого мероприятия – укрепить их против усилившейся за прошедшие со времени постройки замка полвека осадной артиллерии, подкопов и подрывов.
Массовое изготовление литых бронзовых орудий, усиление их мощности благодаря новым технологиям отливки и получения пороха, появление чугунных ядер, колёсных лафетов для осадной артиллерии, широкое использование во второй половине XVI в. в Центральной и Восточной Европе подземных минных галерей для обрушения стен и башен (например, взятие Казани в 1552 г., многочисленные осады Ливонской войны 1558—1583 гг.) (Яковлев 2000, 70—78; Носов 2002: 78—79; Пенской 2018: 122) – всё это обусловило сходные способы реконструкции старых крепостей и замков. Так, заполнение грунтом и камнями нижних ярусов замковых башен прослежено археологами для ряда крепостей Среднего Поднестровья — Хотина, Сорок, Каменца-Подольского (Чеботаренко 1964: 212— 214; 1972: 217—218; Пламеницька 2012: 333). Известны такие мероприятия и в других регионах Европы. Шведский король Густав Ваза, готовясь к войне с Русским государством, в 1546-1555 гг. провёл масштабную реконструкцию Выборгского замка. В частности, письменные источники отмечают, что «Дозорная башня заполнена глиной и камнем по приказу короля Густава для повышения её оборонной мощи» (Абдуллина 2006: 9). Вероятно, кроме заполнения грунтом башен и утолщения кладки стен, был поднят с помощью подсыпок уровень внутреннего двора Бендерской крепости. Об этом можно будет судить по итогам дальнейших исследований.
Масштабная реконструкция замка принесла свои плоды. Так, весной 1595 г. объединённое молдавско-казацкое войско Наливайко и Лободы разгромило многотысячный отряд Бендерского санджака, но штурм новых замковых укреплений окончился полной неудачей и привёл к большим потерям казаков (Аствацатуров 2007; 47—48, 64).
Таким образом, археологические исследования 2019 г. в Юго-Восточной башне цитадели Бендерской крепости подтвердили версию о том, что первые каменные укрепления были сооружены здесь именно турками, и не ранее конца 1530-х гг. Получены данные об особенностях конструкции и функционировании нижнего яруса башни в 1538—1584 гг. В ходе исследований второго стратиграфического горизонта установлено, что он сформировался в процессе реконструкции и расширения крепости в 1584 г. В материалах этого горизонта отразились новые тенденции в фортификационном искусстве второй половины XVI в. на территории Северного Причерноморья и соседних регионов.
Список литературы Бендерская крепость в XVI в. по данным археологических исследований
- Абдуллина С.А. 2006. Выборгский замок - образец фортификационного искусства. В: Абдуллина С.А. (отв. ред.). Выборг. Фортификация. Санкт-Петербург: Европейский Дом, 5-15.
- Аствацатуров Г.О. 2007. Бендерская крепость. Бендеры: Полиграфист.
- Бырня П.П. 1969. Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. Кишинёв: Штиинца.
- Вилков Г.С., Чайкин Я.И., Гальцев П.Ю, Гуцул А.В. 2018. Бендерская крепость. Живой символ истории. Тирасполь: Полиграфист.
- Гольцева Н.В. 1990. Отчёт об археологических исследованиях южного участка рва Бендерской крепости. Архив Национального музея истории Молдовы. Д. 316.
- Зайцев А.В. 1971. Бендерское вооружённое… Кишинёв: Картя Молдовеняскэ.
- Косточкин В.В. 1962. Русское оборонное зодчество конца XIII - начала XVI веков. Москва: АН СССР.
- Красножон А.В. 2011. Бендерский фортификационный комплекс XV-XVIII вв. Stratum plus 6, 221-251.
- Красножон А.В. 2012. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре. История строительства. Кишинёв: Stratum plus.
- Красножон А.В. 2018. Фортецi та мiста Пiвнiчно-Захiдного Причорномор'я (XV-XVIII ст.). Одеса: Чорномор'я.
- Носов К.С. 2002. Русские крепости и осадная техника, VIII-XVII вв. Санкт-Петербург: Полигон.
- Мисько Ю.В. 2017. Археологiчнi дослiдження Хотинської фортецi: пiдсумки та перспективи. In: Gancarski J. (ed.). Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach. Krosno: Muzeum Podkarpackie, 533-554.
- Пенской В.В. 2018. Военное дело Московского государства. От Василия Тёмного до Михаила Романова. Вторая половина XV - начало XVII в. Москва: Центрполиграф.
- Пламеницька О. 2012. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам'янець: (пiзньоантичний - ранньомодерний час). Кам'янець-Подiльський: ФОП Сисин О.В.
- Полевой Л.Л., Бырня П.П. 1974. Средневековые памятники XIV-XVII веков. Кишинёв: Штиинца (Археологическая карта МССР. Вып. 7).
- Разумов С.Н., Фидельский С.А., Четвериков И.А., Симоненко С.О. 2019. Реконструкция Юго-Восточной башни цитадели Бендерской крепости в XVIII в. (по данным археологических исследований). Исторический альманах Приднестровья 17, 7-10.
- Чеботаренко Г.Ф. 1964. К вопросу о времени возникновения Сорокской крепости. В: Зеленчук В.С., Рикман Э.А., Смирнов Г.Д. (ред.). Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 210-216.
- Чеботаренко Г.Ф. Археологические раскопки в Сорокской крепости в 1968-1969 гг. 1972. В: Рафалович И.А. (отв. ред.). Археологические исследования в Молдавии в 1968-1969 гг. Кишинёв: Штиинца, 201-237.
- Яковлев В.В. 2000. История крепостей. Санкт-Петербург: Полигон.
- Şlapac M. 2004. Cetăţi medievală din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea - mijlocul secolului al XVI-lea). Chişinău: ARC.