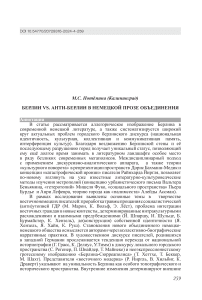Берлин vs. анти-Берлин в немецкой прозе объединения
Автор: Потмина М.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается аллегорическое изображение Берлина в современной немецкой литературе, а также систематизируется широкий круг актуальных проблем городского берлинского дискурса (национальная идентичность, культурная, коллективная и коммуникативная память, интерференция культур). Благодаря воздвижению Берлинской стены и её последующему разрушению город получает уникальный статус, позволяющий ему ещё долгое время занимать в литературном ландшафте особое место в ряду безликих современных мегаполисов. Междисциплинарный подход с применением дискурсивно-аналитического аппарата, а также теории «культурного поворота» в репрезентации пространств Дорис Бахманн-Медик и концепции «катастрофической иронии» писателя Райнхарда Йиргля, позволяет по-новому взглянуть на уже известные литературно-культуроведческие методы изучения метрополий (концепцию урбанистического письма Вальтера Беньямина, «гетеротопий» Мишеля Фуко, «социального пространства» Пьера Бурдье и Анри Лефевра, теорию города как «палимсеста» Алейды Ассман). В рамках исследования выявлены основные темы в творчестве восточнонемецкихписателей: проработкатравмыпрощанияссоциалистической (анти)утопией ГДР (М. Марон, К. Вольф, Э. Лёст), проблема интеграции восточных граждан в новые контексты, детерминированные интракультурными расхождениями и взаимными предубеждениями (Й. Шпаршу, И. Шульце, Б. Бурмайстер, К. Хензель), де(конструкция) собственной идентичности (Я. Хензель, Я. Хайн, К. Руш). Становления нового объединенного немецко-немецкого общества осмысляется авторами через коллективно-биографические нарративные практики. В художественном дискурсе писателей, родившихся в западной Германии прослеживается тенденция перехода от национальной историографии (Г. Грасс, К. Делиус, У Тимм) к дискурсу локального городского пространства (С. Регенер, П. Шнайдер, Т. Майнеке) и неоэкспрессионистскому гротескному изображению «Берлина-Сюрреаполиса» JT. Хеттхе, Т. Беккер, М. Шахт). Представители «восточного модерна» (Р. Йиргль, В. Хильбиг, К. Драверт) указывают на уникальность Берлина как особого топографического и исторического пространства. Внутренние изменения детерминируют внешние (архитектурные, языковые, коммуникативные, медиальные) трансформации. Отдельную группу Берлинских романов представляют собой произведения немецкоязычных писателей с мигрантским бэкграундом (Э.З. Эздамар, Я. Кара, Ф. Займоглу). Проблема полиидентичности в контексте преодоления многоуровневых языковых, культурных и социальных кодов показана в их произведениях через нарративную репрезентация как локального интракультурного, так и глобального мультикультурного Берлинского опыта. В литературе «Поворота 1989/90» создаются новые урбанистические пространства, как поддерживающие «Берлинский миф», так и разрушающие его через конструирование апокалипсического образа «Анти-Берлина».
Объединение, берлинская стена, берлинский роман, современная немецкая литература, идентичность, метафора, семиотика пространства, модерн
Короткий адрес: https://sciup.org/149147193
IDR: 149147193 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-259
Текст научной статьи Берлин vs. анти-Берлин в немецкой прозе объединения
Reunification of Germany, Berlin Wall, Berlin novel, modern German literature, identity, metaphor, semiotics of space, modernism.
В немецкоязычном романе конца XX – начала XXI века Берлин приобретает неповторимую идентичность. Историко-политические события – падение Берлинской стены и воссоединение Германии – придали некогда разделенному городу особый статус, отличающий его от остальных мегаполисов. Берлин после 1989/90 гг. – это не просто городское пространство со всеми, присущими столичному городу атрибутами (город как центр общественнополитической и культурной жизни, место притяжения туристов, источник новых возможностей, очаг социальных проблем и миграционных вызовов), а «исторический миф», репрезентативное пространство, в котором в начале XXI века все еще реализуется дискурс объединенной Германии.
После присоединения ГДР к ФРГ для бывших восточнонемецких писателей старшего поколения Берлин становится местом памяти, позволяющим не только комплексно реконструировать мета-дискурсивную ситуацию, сложившуюся в культурном и литературном ландшафте Германии до и после Объединения, но и проработать собственную травму прощания с социалистической утопией и идеологическим диктатом. М. Марон, К. Вольф, Э. Лёст, В. Хильбиг и К. Драверт в декорациях фантомного города Берлина, наполненного артефактами исчезнувшей ГДР, пытаются создать для себя новые безопасные пространства и интегрировать в них старую идентичность. Б. Бурмайстер, К. Хензель и И. Либманн на примере частных историй указывают на сложности интеграции восточных граждан в новые контексты, детерминированные интракультурными расхождениями и взаимными предубеждениями.
Представители среднего поколения писателей, родившиеся в ГДР и переехавшие в Западный Берлин после Объединения, видят в воссоединенных частях города не только диффузное пространство «между» востоком и западом, прошлым и будущем, утопией и реальностью (Т. Бруссиг, Й. Шпаршу, И. Шульце), но и потенциальную возможность для конструирования новой идентичности (В. Хильбиг, Й. Шпаршу, И. Шульце, Л. Зайлер).
Молодые восточнонемецкие писатели (Я. Хензель, Я. Хайн и К. Руш) по-новому позиционируют себя в декорациях неповторимого урбанистического пространства. Они считают себя гражданами обеих Германий (бывшей ГДР и новой ФРГ), последними «осси» и новыми «весси», и фотографически точно фиксируют каждый момент окружающей их действительности. В центре внимания «Поколения 89» оказываются не столько исторические события, связанные с падением Берлинской стены, сколько повседневная жизнь, позволяющая соединить коллективное прошлое и индивидуальное настоящее.
Становления нового объединенного немецко-немецкого общества осмысляется ими через коллективно-биографические нарративные практики.
В художественном дискурсе писателей, родившихся в западной Германии, также прослеживается тенденция перехода от национальной историографии (Г. Грасс «Широкое поле») к дискурсу локального городского пространства (С. Регенер «Берлинский Блюз», П. Шнайдер «Возвращение Эдуарда», Т. Майнеке «Древесина»). Разделенный некогда Берлин становится, с одной стороны, катализатором преобразований городской среды после Поворота 1989 года. С другой, именно в Берлине активизируется процесс многовекторного осмысления истории, включающий в себя как присвоение травматического опыта жизни в ГДР, таки и преодоления нацистского прошлого Германии.
Западнонемецкий нарратив отличает экспериментальный неоэкспрессионизм (Т. Хеттхе «Нокс», Т. Беккер «Прекрасная Германия», Таня Дюкерс «Зона игры» и «Кафе Бразилия») и поп-диспозитив (Мартин Шахт). Концепция «Берлина-Сюрреаполиса» [Ledanff 2009, 17], постмодернистская эстетика, акционизм и перформативность текстов представителей этой группы указывает на смену парадигм в художественном дискурсе Германии после Объединения.
Основной комплекс тем, затрагиваемый восточными и западными авторами в Берлинских текстах, связан с вопросами преодоления прошлого немецко-немецкой истории, поиска идентичности, смены менталитета, потери ориентиров и сложностях, возникающих в Объединенной Германии в условиях выстраивания новой формации интра- (восточный немец – западный немец) и интеркультурного (немец – мигрант) общества.
В противостоянии двух концепций «Берлин – исторический миф» и «Берлин – мегаполис», по мнению Сюзанны Леданфф, победила вторая. Тем не менее, «берлинский роман о мегаполисе как гомогенный урбанистический концепт в полной мере не реализовался» [Ledanff 2009, 17], Франк Ширрмахер также отмечает, что в Германии «уже несколько десятилетий не существует литературы о мегаполисе, описывающей жизнь города мирового масштаба. В кино есть “Нью-йоркские истории”, но нет “Берлинского романа послевоенного времени”» [Schirrmacher 1989, 17]. Эрк Гримм в своем исследовании «Семиополис» соглашается с тезисом Ф. Ширрмахера и отмечает отсутствие авангардной эстетики мегаполиса в берлинских текстах: «Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на шквал опубликованных после 1989 года “Берлинских романов”, практически нет попыток упаковать опыт большого города в модернистскую текстовую форму, которая соответствовала бы “роману о мегаполисе”, к созданию которого призывал Ширрмахер» [Grimm 2001, 117]
Несмотря на скептический отклик литературных критиков, сами авторы, особенно писатели – представители так называемого «восточного модерна» (Р. Йиргль, В. Хильбиг, К. Драверт) указывают на уникально сть Берлина как особого топографического и исторического пространства. В своем эссе «Город без свойств. Берлин – рондо во времена катастрофической иронии» писатель Райнхард Йиргль отмечает, что Берлин как никакой другой европейский город за последние десятилетия столкнулся с целым рядом грандиозных историко-политических и социокультурных изменений. Внутренние изменения детерминируют внешние (архитектурные, языковые, коммуникативные, медиальные) трансформации. Берлин представляет собой конгломерат архитектурного фрагментирования и имеет все шансы стать первым «смоделированным городом» [Jirgl 2008, 91]. Город как «место памяти старого типа скидывает с себя старую кожу и превращается в “город без свойств”» [Jirgl 2008, 91]. В виртуальной реальности Берлин сможет как выдумать и присвоить себе любые атрибуты, так и избавиться от них при желании, если они будут мешать ему» [Jirgl 2008, 91]. Двусмысленность социокультурной (гипер)реальности Берлина идеально вписывается в концепцию симулякров Ж. Бодрийяра. Топографическое многообразие и многовариатность транслируемых смыслов позволяет Берлину в век «катастрофической иронии» [Jirgl 2008] выступать в качестве индикатора международной политики и «писать очередную главу собственной истории в стилистике новых метрополий» [Jirgl 2008, 91].
По мнению литературоведа и социолога Дорис Бахманн-Медик именно Падение Берлинской стены и стирание границ стали причиной того, «что категории одновременности и параллельности взяли верх над категориями развития и прогресса», но, при этом, «привели к образованию новых границ, новых пространственных диспаритетов» [Бахманн-Медик 2017, 450]. Стефано Боери также отмечает: «Любое внимательное изучение нашего окружения в самом деле обнаруживает многообразие границ, стен, заборов, порогов, отмеченных знаками территорий, систем безопасности и пропускных пунктов, виртуальных границ, специализированных зон, защищенных территорий и контролируемых областей» [Boeri 2003, 52].
Поскольку случаи смысловой нагруженности пространства, по мнению Бахманн-Медик, нельзя увидеть на карте, возникает потребность в новых методах анализа подобных комплексных воображаемых пространств. Важной тенденций в присвоении новых смыслов наукой Д. Бахманн-Медик называет «перформативный поворот» в гуманитарных дисциплинах. Одной из стратегий изучения современных городских текстов, по мнению культуролога, например, может стать техника «контрапунктного» чтения В. Саида и глобализационный метод «межкультурного перевода» Хоми К. Баба. Дискурсивно-аналитический подход, на наш взгляд, также представляется в этой связи достаточно продуктивным.
Концепция писателя Райнхарда Йиргля и теория «культурного поворота» в репрезентации пространств Дорис Бахманн-Медик [Бахманн-Медик 2017] позволяют по-новому взглянуть на уже известные литературно-культуроведческие подходы: концепцию урбанистического письма Вальтера Беньямина [Беньямин 2012], «социального пространства» Пьера Бурдье [Бурдье 2007] и Анри Лефевра [Лефевр 2015], концепцию «гетеротопий» Мишеля Фуко [Фуко 2006], теорию города как «палимсеста» Алейды Ассман [Ассман 2014].
В отличие от миметической повествовательной традиции, центральным элементом творчества Райнхард Йиргля также становится семиозис. Городской ландшафт в его произведениях отличается характерным для мест памяти колоритом: руины, заброшенные или ещё неосвоенные земельные участки, катакомбы, пустыри и кладбища метафорически превращают Берлин в «город мертвых». Интересно, что руины скрыты и находятся под обновленным историческим центром города.
В романе Р. Йиргля «Собачьи Ночи» «Берлин – каменные джунгли», отображает топографию всей истории Германии: «Выйдя из метро, промчавшись по подвальным шахтам станции Фридрихштрассе - в туннельном ветре, несмотря на это другое время, тени унизительных пограничных контролеров: меловые униформы и служебные лица с прыщавой кожей лемура - все еще зафиксированы здесь - и теперь снова на поверхности Берлина: обломки руин и мест: Руины от национал-социализма все еще говорили о горячем возмездии за единого немца = заблуждение и молчание от своих желаний, если не хочешь говорить о себе как об убийце - стены и руины от национал-социализма взывали к фантазии своей силы воли: тянуться к миру, не имея возможности схватить мир, у: никогда не было желаний! для нас - Теперь: расстроенные обанкротившиеся руины столичного безумия, бормочущие в помпезных доспехах десятилетия кошачьего золота: Говори со мной иностранное, чтобы я мог быть вне себя» [Йиргль 2007, 117].
Берлин, по мнению писателя, – место смерти, поскольку именно здесь политика вышла за пределы своих границ и как раковая опухоль распространилась на семиосферу города: «По обе стороны стены расцветали две зависящие друг от друга знаковые системы», которые были переплетены друг с другом. Берлинская стена выполняла своё единственное предназначение: «установление и сохранение двойственности, вторичности реальности собственной системы» [Jirgl 2008: 55]. По этой причине «только в Берлине и только в этом контексте мог состояться такой спектакль как исчезновение Берлинской стены» [Jirgl 2008: 56].
Перцептивная топонимика Берлина основана на сегментации городской жизни, с помощью техники монтажа создается неповторимый, постоянно меняющийся и оттого достаточно непредсказуемый образ города.
Постоянно сменяющиеся эпизоды жизни людей в большом городе сопровождаются многочисленными визуальными и акустическими раздражителями. Технические приспособления, телевизоры, телефоны – все может стать источником опасности: гудок телефона, например, вызывает у героев ассоциацию с выстрелом («пуф-пуф-телефоны» [Jirgl 2010, 506]).
Внедрение различных технических средств в межличностную коммуникацию превращает медиум из средства общения в еще один субъект интеракции. Он оказывает влияние на чувственное восприятие текста читателем и берет на себя функцию управления и структурирования читательским сознанием:
Похожее описание города как монстра можно увидеть в романе Йенса Шпаршу «Комнатный фонтан». Протагонист обнаруживает себя после Объединения в холодной берлинской новостройке, похожей на казарму: «потом мне представилось […] будто квартира похожа на зверя. Вот открывается дверь, это пасть, и ты проваливаешься в темноту. Длинный коридор – это пищевод, который заглатывает тебя. Окна- тусклые глаза, редко выпускающие взгляд наружу. Водопроводные трубы – вены, фановая труба – толстая кишка, сердито бурчащая и булькающая. Под тонким слоем штукатурки – рыхлое мясо, бетонная стена, внутри которой вся нервная система – электрические провода» [Шпаршу 2004, 13-14].
Обнаженные как провода нервы, психическая неустойчивость и растерянность, сменяющаяся приступами ярости – типичная характеристика новоиспеченного Берлинца.
Фрагментарность действительности отражается у Йиргля и на уровне структуры произведения. В романе «Отщепенчество» («Abtrünnig: Roman aus der nervösen Zeit», 2005) [Jirgl 2010a] писатель часто отступает от представления основной сюжетной линии, включает в повествование достаточно объемные эссеистические вставки, а иногда и целые главы, похожие на трактаты, разбавляет рассказ культурно-историческими экскурсами. Текст построен в формате открытого текста, допускающего создание множества возможных подтекстов. Система гиперссылок позволяет читателю самостоятельно выстроить последовательность текстовых отрывков и фрагментирует эпическую структуру романа. Используемые при этом эстетические средства функционируют по ризоморфному принципу Жилья Делеза/Феликса Гваттари согласно которому из любой формы могут развиться непредсказуемые комбинации образов и смыслов, кодов.
Из всех произведений Р. Йиргля «Отщепенчество. Роман из нервного времени» наиболее близок к концепции литературного постмодернизма благодаря неоднородности материала, приемам самореференции и полифонии, которые позволяют выйти за рамки ограниченной повествовательной перспективы двух протагонистов.
Рассказ в романе ведется от лица двух мужчин: журналиста из Гамбурга, который расстался с женой после 16-летнего брака и переехал в Берлин с целью начать новую жизнь и выходца из восточной Германии, сотрудника федеральнопограничной службы во Франкфурте-на-Одере, который тяжело переживает смерть своей любимой жены от рака. В Берлине оба героя встречают новых спутниц жизни: восточный немец – восточноевропейскую проститутку, а журналист влюбляется в своего психотерапевта – загадочную женщину Софи. Несмотря на трагический конец истории, восточногерманская биография образует квазисказочно-романтический фон для шоковых переживаний западного героя.
Западнонемецкий рассказчик – типичный представитель «нервозной эпохи». Читатель не понимает, насколько его отношения с женщиной-терапевтом реальны. Фрагментарная форма изложения, переплетение видений, снов и реальности, многочисленные потенциальные варианты развития событий, не позволяют составить полную картину. Ситуация осложняется тем, что журналист, а теперь еще и писатель, постоянно находится в состоянии отчаяния: как фрилансеру ему сложно найти работу, отношения с Софи складываются драматично. В современном мире герой Йиргля чувствует, что теряет чувство собственного достоинства в безуспешных попытках найти свое место под солнцем. В заключении он полностью отчаивается и превращается в убийцу. Журналист появляется позже в образе актера - маньяка в романе Р. Йиргля «Атлантическая стена» (Die Atlantische Mauer, 2000) [Jirgl 2010b]. И вновь читатель наблюдает за субъективной демонизацией повседневной городской жизни глазами отчаявшегося человека.
Безработный, бездомный, беспокойный – таков типичный житель Берлина в романах большинства современных авторов. Все надежды, планы и начинания главных героев – «отщепенцев» терпят крах и в этом романе, их перемалывает молох Берлин. Мегаполис представлен здесь глобализованным пространством, в котором люди оттесняются на обочину жизни, их существование ограничивается удовлетворением исключительно физических потребностей, ни в личной, ни в профессиональной жизни они не добиваются успеха.
В создании образа Берлина, Йиргль в полной мере реализует свой пессимистический взгляд на жизнь. Автор постоянно собирает свидетельства повседневного городского безумия и варварства. Основная задача вставных зарисовок и авторских размышлений, пунктирно разбросанные по всему тексту, показать стремительный распад всех сфер жизни постмодернистского общества потребления. Человек воспринимается исключительно как функция, которая не должна иметь никаких эмоциональных или ментальных потребностей. Он как цельная личность разрушен, его функции рассеяны по городу в борьбе за выживание [Потёмина 2022].
Экзистенциальный ужас протагонистов передается читателю, каждый уголок городского пространства наполнен разного рода опасностями: разъяренная жестокая толпа, агрессивные бездомные, проститутки, – типичные картины проводимой на улицах Берлина видимой и невидимой войны. Протагонисты постоянно наталкиваются на строительные площадки, символизирующие разрушение настоящего и «воскрешения» артефактов прошлого. Обнаруженные спустя десятилетия во время раскопок бомбы и боеприпасы времен Второй мировой войны метафорически символизируют отсроченный эффект смерти в настоящем. Да и вновь построенные коммерческие офисные здания никому не нужны и стоят пустыми.
В своих романах Йиргль создает образ метафорического Анти-Берлина. При этом писатель использует уникальную в современной немецкой литературе форму письма, которая представляет город как место насилия в культурнофилософском смысле. Различные культурно-критические концепции рассматриваются Йирглем на уровне отдельной биографии: герои его романов всегда находятся в состоянии жесточайшего экзистенциального кризиса или морально-этической дилеммы.
Список литературы Берлин vs. анти-Берлин в немецкой прозе объединения
- В заключении следует отметить еще один сегмент Берлинских романов, в которых проявляется нарративная репрезентация как локального интракультурного, так и глобального мультикультурного опыта. Проблема полиидентичности в контексте преодоления многоуровневых языковых, культурных и социальных кодов, становится одной их главных тем сборника рассказов Эмине Зевги Эздамар (Emine Sevgi Özdamar) «Родной язык» (Mutterzunge, 1990) [Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 328с.
- Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
- Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. 288 с.
- Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя. 2007. 288 с.
- Йиргль Р. Собачьи ночи. Тверь: Kolonna Publikations, 2007. 496 с.
- Лефевр А. Производство пространства. М.: Streika Press, 2015. 432 с.
- Потемина М. С. Катастрофическая ирония и поэтика фрагментарности в текстах Райнхарда Йиргля // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2022. Т. 7, № 2. С. 50-65. DOI 10.18522/2415-8852-2022-2-50-65.
- Потемина М. С. Что осталось от Берлинской стены? Литература Германии после Объединения. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2022. 191 с.
- Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. С. 191-204.
- Шпаршу Й. Комнатный фонтан. СПб.: Амфора, 2004. 223 с.
- Boeri S. Border Syndrome. Notes for a Research Program // Territories. Islands, Camps and Other States of Utopia (Katalog der Ausstellung vom 1. Juni bis 25. August 2003). Hg. KW - Institute for Contemporary Art. Berlin, 2003. S. 52-60.
- Grimm E. Semiopolis. Prosa der Moderne und Nachmoderne im Zeichen der Stadt. Bielefeld: Aisthesis, 2001. 362 S.
- Jirgl R. Abtrünning. Roman aus der nervösen Zeit. München: DTV, 2010a. 544 S.
- Jirgl R. Die atlantische Mauer. München: DTV, 2010b. 450 S.
- Jirgl R. Stadt ohne Eigenschaften. Berlin - ein Rondo im Zeitalter katastrophischer Ironie. In Jirgl, R., Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2006. München: Carl Hansen Verlag, 2008. S. 66-91. (In German).
- Jirgl R. Zeit der niedrigen Himmel. In Jirgl, R., Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2006. München: Carl Hansen Verlag, 2008. S. 53-65. (In German).
- Kara Y. Selam Berlin. Zürich: Diogenes, 2003. 381 S.
- Langer, Phil C.: Kein Ort. Überall. Die Einschreibung von "Berlin" in die deutsche Literatur der neunziger Jahre. Berlin: Weidler Buchverlag. 2002. 274 S.
- Ledanff S. Hauptstadtphantasien. Berliner Stadtlektüren in der Gegenwartsliteratur 1989-2008. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2009. 670 S.
- Özdamar E.S. Mutterzunge. Berlin: Rotbuch, 2013. 166 S.
- Potyomina, M. S. Poetics of the deconstruction of Reinhard Jirgl's text: A translational perspective // Slovo.ru: Baltic Accent. 2022. Vol. 13, No. 2. P. 134-146.
- Schirrmacher F. „Idyllen in der Wüste oder Das Versagen vor der Metropole. Überlebenstechniken der jungen deutschen Literatur am Ende der achtziger Jahre". Frankfurter Allgemeine Zeitung. 10.10.1989.
- Zaimoglu F. Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft Hamburg: Rotbuch. 2013. 141 S.
- Zaptcioglu D. Der Mond isst die Sterne auf. Stuttgart: Thienemann. 1998. 221 S.
- Zitzlsperger U. ZeitGeschichten: Die Berliner Übergangsjahre. Zur Verortung der Stadt nach der Mauer. Oxford, Bern, Berlin u.a.: Peter Lang 2007. 246 S.