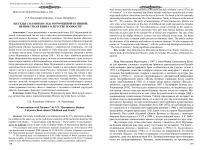«Беседы с памятью» В.Н. Муромцевой-Буниной: неизвестная книга о детстве и юности
Автор: Пономарев Евгений Рудольфович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья рассказывает о неизвестной книге В.Н. Муромцевой-Буниной, озаглавленной так же, как и известные воспоминания мемуаристки о совместной жизни с Буниным, - «Беседы с памятью». Эти более ранние «Беседы», которые планируется вскоре опубликовать в составе Полного собрания сочинений Муромцевой-Буниной, написаны под сильным влиянием идей и стилистики романа Бунина «Жизнь Арсеньева». Можно с уверенностью утверждать, что сам Бунин читал эти мемуары и на каком-то этапе выполнил стилистическую правку поверх текста жены. Книга полна чрезвычайно интересных сведений о жизни семьи Муромцевых в Москве рубежа XIX - XX вв. Круг знакомств родителей Веры Николаевны был весьма широк, поэтому ее воспоминания о днях детства и юности представляют собой широчайшую энциклопедию московской жизни. Еще более расширился круг общения Веры Муромцевой в юности: многие ее одноклассницы были девушками из известных семей, а в дальнейшем принимали активное участие в культурной жизни России и эмиграции. Учеба мемуаристки на Высших женских курсах тоже отразилась в книге: в эти годы она попала в круг студенческой молодежи и в вихрь предреволюционных настроений. Не менее интересны упоминания разного рода известных государственных, театральных, научных деятелей, которыми пестрят мемуары. Статья систематизирует дискурсы книги воспоминаний и анализирует внутреннюю структуру воспоминаний. А также сравнивает поэтику «Бесед с памятью» с поэтикой и идейной структурой «Жизни Арсеньева», фиксируя существенные совпадения.
Вера муромцева, муромцева-бунина, иван бунин, мемуары, неизвестная книга, дореволюционная москва, изучение быта, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149141262
IDR: 149141262 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-158
Текст научной статьи «Беседы с памятью» В.Н. Муромцевой-Буниной: неизвестная книга о детстве и юности
Вера Николаевна Муромцева, с 1907 г. жена Ивана Алексеевича Бунина (по причине сложного устройства брачного законодательства Российской империи зарегистрировать брак и обвенчаться им удалось только в 1922 г. в Париже), известна в первую очередь как мемуарист - автор нескольких биографических очерков о писателях и деятелях культуры (написаны в 1930-е гг, тогда же опубликованы в эмигрантской периодике), автор биографической книги «Жизнь Бунина» (написана после смерти мужа, опубликована в 1958 г), а также автор цикла очерков «Беседы с памятью», продолжающего оконченную 1907 г. биографию Бунина [см.: Рогачевская 2019]. Эти «Беседы с памятью» писались, по-видимому в разное время: частью еще при жизни Бунина, частью после его смерти. Муромцева-Бунина осмысляла их как главы будущей книги (в январе I960 г. американская издательница Полина Тэйлор предложила ей контракт на издание еще не написанной книги, но в августе того же года контракт был расторгнут Буниной, так как издательница стала требовать существенных изменений текста [Дэвис, Пономарев 2014, 506-507]), но публиковались и по отдельности в эмигрантской периодике начиная с 1960 г. (публикации написанных очерков продолжил Л.Ф. Зуров и после смерти Муромцевой-Буниной). Под одной обложкой «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью» впервые были изданы в СССР в 1989 г, подготовивший книгу А.К. Бабо-реко восстановил изначальный замысел автора, состоявший из двух книг.
Но, помимо этих, всем известных «Бесед с памятью», В.Н. Муромцева-Бунина написала еще одну книгу под таким же заглавием. Эта книга -изначальные «Беседы с памятью» - писалась в 1930-е гг, была продолжена в первой половине 1940-х гг. и осталась не завершенной. В отличие от поздних «Бесед», эта книга создавалась под сильнейшим влиянием и, вероятно, даже под руководством И.А. Бунина (некоторые части мемуаров были им отредактированы). Заглавие, заимствованное из произведения

Е.А. Боратынского «Отрывки из поэмы: Воспоминания» (1819), Муромцевой-Буниной очень нравилось, ранней книге под этим заглавием, как и более поздней книге, предшествует одно и то же четверостишие-эпиграф:
О, память, ты одна беседуешь со мною, Ты возвращаешь мне отъятое судьбою; Тобою счастия мгновенья легкокрылы, Давно прошедшие в мечтах, мне снова милы.
(Русский архив в Лидсе (далее: РАЛ). MS 1067/145; у Боратынского иная пунктуация, вместо слова «прошедшие» в оригинале «протекшие»).
Первые «Беседы с памятью» посвящены детским годам и ранней юности, состоят из семи частей и продолжаются некой дополнительной частью, которая, вероятнее всего, планировалась как начало второй книги воспоминаний - от нее сохранились (возможно, это все, что было написано) лишь четыре кратких наброска.
Первая часть названа «Детская», вторая не имеет заглавия в рукописи (вероятно, была выделена из общего корпуса текста позднее остальных; однако в плане-конспекте книги часть озаглавлена «Арсеньевская гимназия») и рассказывает об отрочестве и поступлении Верочки Муромцевой в женскую гимназию С.А. Арсеньевой, третья часть «Институт» посвящена учебе в Усачевско-Чернявском женском училище (или институте), в котором Вера отучилась несколько месяцев как «живущая», а затем полгода в качестве приходящей воспитанницы. Значительный фрагмент «Института» повествует о семье Муромцевых и лете, проведенном в имении бабушки Веры Николаевны - Анны Николаевны Муромцевой (урожденной Костомаровой).
Четвертая часть вновь не имеет заглавия. Она рассказывает о переходе Веры Муромцевой в Четвертую московскую гимназию (ее семья переменила квартиру), подробно рассказывает об учении - преподавателях и ученицах. Пятая часть «Старшие классы» продолжает рассказ о гимназии, переводных экзаменах, а также о непростых отношениях отца и дяди, знаменитого профессора-юриста С.А. Муромцева, о дачном отдыхе в Царицыно, новых знакомых и впечатлениях, рождественских маскарадах, первых увлечениях юношами. Шестая часть «Первый класс» (так назывался последний, выпускной класс гимназии) посвящена гимназическим будням (включая, например, гимназический бал, который ежегодно организовывали ученицы выпускного класса), а также московской культурной жизни, которой все более приобщается взрослеющая девушка, - поездке на спектакль Художественного театра «Царь Федор Иоаннович», спектаклях с участием М.Н. Ермоловой, концертах классической музыки (чаще всего упоминается трио Шора), вечерах, проведенных в культурных семьях Москвы. Кроме того, много внимания в этой главе (в силу студенческого круга общения автора) уделено студенческим беспорядкам зимы-весны 1899 г, а также выпускным экзаменам и прощанию с учителями.

Седьмая часть «Первое свободное лето» продолжает предыдущие части: она рассказывает о жизни образованной молодежи Москвы в дачный сезон. Отличает эту часть от предыдущих лишь чувство взрослости, которое уже ощутила героиня. Появляются и намеки на политическое фрондерство (обсуждается речь «дяди Сережи» - С.А. Муромцева - на Пушкинских торжествах 1899 г, после которой Московское юридическое общество, от имени которого Муромцев выступал, было закрыто). По замыслу - окончание гимназии знаменует собой взросление героини, на этом первая книга воспоминаний завершается.
Несколько сохранившихся набросков свидетельствуют о том, что автор активно работал и над продолжением своих «детства» и «отрочества». Это, во-первых, набросок «Коллективные курсы», изнутри рисующий жизнь «коллективных курсов», существовавших в Москве в те годы, когда иных высших учебных заведений для женщин не было (женские курсы, организованные профессором Московского университета В.И. Герье, были открыты в 1872 г. и просуществовали до 1888 г; в 1900 г. В.И. Герье удалось вновь открыть женские курсы в Москве). Об этих Коллективных курсах конца XIX в., в отличие от так называемых «курсов Герье», известно немногое, тем важнее живое свидетельство: «Я застала коллективные курсы перед самым их закрытием, пробыла на них год, то есть два семестра, в конце последнего мы уже знали, что с осени разрешено открыть “Высшие женские курсы”, которые будут давать права, подобно Бестужевским, а эти закроются, поэтому мы, первокурсницы, уже весной ничего не делали, так как на следующий год мы должны были уже зачисляться на то или иное отделение, держать обязательные colloquium’bi и экзамены, писать рефераты» (РАЛ. MS 1067/463). Кроме того, очерк подробно сообщает о той общественной жизни, в которую неминуемо вливались студенты и курсистки: студенческие волнения 1899 г, совпавшие с окончанием гимназии, пробудили общественную мысль Веры Муромцевой.
Отсюда прямой путь к следующему незавершенному очерку под названием «Приготовительный класс». Объяснение этой метафоре дано в одном из набросков, дополняющих первый очерк: рассказ о «кружке», который решили организовать Вера, ее гимназические подруги и друзья-студенты для сбора и рассылки книг сельским учителям, предваряется такой фразой: «<.. .> многие из этой приготовительной школы перешли уже в настоящую школу < > революцию, не довольствуясь просветительной деятельностью» (РАЛ. MS 1067/204). Это книжное «общество», совсем не антиправительственное, но вынужденное быть «тайным» из-за общей атмосферы в стране, овеяно юношеским максимализмом и девическим очарованием. Третий очерк из несостоявшейся второй книги не имеет заглавия и повествует о поездке на Кавказ, которую Вера предприняла летом 1900 г. по приглашению ботаника М.П. Цыбульской (в браке - Нагибина). Этот очерк сохранился очень фрагментарно: освещена лишь небольшая часть этой поездки, текст обрывается внезапно - вероятно, о поездке было написано что-то еще. Завершает наброски второй книги краткий неоза-
главленный набросок о «Высших женских курсах», открытых профессором Герье в 1900 г.
Сохранившиеся наброски позволяют судить об общем замысле второй книги. Она должна была, вероятно, включить в себя всю студенческую жизнь Веры Муромцевой, завершившись окончанием курсов и встречей с Буниным (что произошло несколько раньше окончания курсов). В этом случае те «Беседы с памятью», что хорошо нам известны, могли бы считаться третьей книгой воспоминаний В.Н. Муромцевой-Буниной. Но прямого авторского указания по этому поводу нигде нет. Кроме того, связь последних «Бесед с памятью» с написанной в середине 1950-х гг. книгой «Жизнь Бунина» очевидна. А ранние «Беседы» остались неопубликованными, поэтому о трех книгах «Бесед» можно говорить лишь гипотетически.
Историческая составляющая мемуаров исключительно интересна. С первых же страниц перед нами не просто интеллигентная московская семья - а живая история культурной Москвы, поданная «домашним образом», через историю семьи. Уже в первых частях постоянно появляется «дядя Сережа» - Сергей Андреевич Муромцев, один из крупнейших русских юристов своей эпохи, сыгравший важную роль в подготовке демократических преобразований в России начала XX в., в недалеком будущем -председатель первой Думы. Другой дядя Веры Муромцевой - «дядя Коля», Николай Антонович Вокач - не был крупным общественным деятелем, как С .А. Муромцев, но тоже был известным московским юристом. Его родная сестра Евгения Антоновна, в замужестве Лубны-Герцык - известная переводчица философской литературы. Его дочь Таля (Наталья), двоюродная сестра Веры Николаевны, выйдет замуж за философа И.А. Ильина и станет его помощницей и соратницей в философских трудах. О Тале Вокач много говорится в «Беседах», ибо растет она бок о бок с мемуаристкой. Интересно, что еще одна родственница Веры Муромцевой - двоюродная сестра ее отца («тетя Нюта» Березовская, занимающая важное место в воспоминаниях) - выйдет замуж за другого крупного философа этой эпохи -Льва Шестова. Таким образом, Вера Николаевна Муромцева (через двух родственниц и подруг своего детства) окажется в родстве как с Ильиным, так и с Шестовым.
Столь же тесно семья Муромцевых связана со сферами науки и образования. Напротив Муромцевых в Трубниковском переулке живет семья профессора Московского университета Алексея Николаевича Петуннико-ва, известного ботаника. С его дочерями Надей (она во взрослой жизни выйдет замуж за внука А.С. Пушкина и будет носить эту фамилию) и Маней Вера подружится на всю жизнь. Блестящие гимназические учителя, о которых много говорится в соответствующих частях, Всеволод Петрович Шереметьевский и Степан Федорович Фортунатов (у первого из них Вера станет учиться чуть раньше, у второго - чуть позднее; оба фигурируют и в более поздних частях книги, ибо они преподавали не только в Четвертой гимназии, но и на Высших женских курсах) хорошо знают родите - лей Веры, поэтому девушка у них сразу на особом счету Среди хороших знакомых семьи Муромцевых - ректор Московского университета, знаменитый анатом Дмитрий Николаевич Зернов; с его сыном Володей (тоже одним из будущих светил науки) Вера дружна с юности, и вся большая научная семья Зерновых в дальнейшем составит круг общения Буниных (сначала в Москве, потом в эмиграции) вплоть до последних лет. С известным историком Дмитрием Ивановичем Иловайским Вера знакомится через его дочь, свою одноклассницу Надю Иловайскую, рано умершую от туберкулеза (впрочем, Вера хорошо знает по рассказам взрослых, что Иловайский раньше бывал в доме ее бабушки и ухаживал за «тетей Нютой» Березовской). Несколько лет Вера и Надя будут очень дружны. Об Иловайском В.Н. Муромцева-Бунина напишет в эмиграции отдельный мемуарный очерк.
Так же легко, как философия и наука, входит в дом Муромцевых искусство. Жена «дяди Сережи» «тетя Маня» (Мария Николаевна Муромцева, урожденная Климентова) - выдающаяся оперная певица, одно из самых знаменитых русских сопрано этой эпохи, рано оставившая сцену. Мать Веры Николаевны Лидия Федоровна - страстная поклонница тенора Николая Фигнера. Забавный сюжет одной из ранних частей книги составляет история о том, как, прослышав, что Фигнер живет в своем имении под Тулой, барышни и дамы из семьи Муромцевых, а также их соседи, едут знакомиться:
«Притворились, что ошибкой, сбившись с пути, мы случайно попали в чье-то имение, и не знаем, кому оно принадлежит. Но, когда узнали, то попросили разрешение тут же, в усадьбе, на лужке, довольно далеком от дома, расположиться, отдохнуть и позавтракать. <.. > Позавтракав и отдохнув от езды, мы всей гурьбой отправились по направлению к самой усадьбе в надежде встретить его, и как по щучьему веленью - он тут как тут - изящный, стройный, в светло-сером легком костюме, более подходящем к курорту, чем к деревне, в белой фуражке с козырьком и желтым ремешком, - вижу его, как будто видела не несколько десятков лет тому назад, а только вчера! <.. > Фигнер был редко мил, редко радушен. Я много видала в своей жизни знаменитостей, но скажу, такой неподдельной простоты и такой воспитанности я почти не встречала» (РАЛ. MS 1067/145).
Помимо личных знакомств с артистами, мемуары рассказывают о богатой театрально-музыкальной жизни Москвы: перечисление спектаклей и краткие отзывы Веры Николаевны о них тоже весьма ценны.
Отметим и дачные знакомства в Царицыно, которые делает семья Муромцевых, одно из которых - случайная встреча с семьей Лопатиных (Екатериной Львовной и ее дочерью Катериной; с братом Катерины, философом Львом Лопатиным, отец Веры Николаевны уже был знаком: он когда-то служил вместе с его старшим братом), переросшая в дружбу. Это знакомство растянется на несколько десятилетий: Катерина Михайловна Лопатина, подружившаяся и с Буниным - еще до женитьбы того на Вере
Николаевне - станет другом семьи Буниных на долгие годы. Другое дачное знакомство - с семьей Алексея Васильевича Орешникова, историка и нумизмата. Его дочь Вера в недалеком будущем (вторым браком) выйдет замуж за Бориса Зайцева, а дружба «двух Вер», продолжавшая более шестидесяти лет, во многом определит и близость И.А. Бунина с Б.К. Зайцевым.
К истории семьи, вписанной в историю культурной жизни России, добавляются гимназические знакомства, во многом формирующие личность мемуаристки и закладывающие круг ее общения на будущее. В старших классах в гимназии рядом с Верочкой Муромцевой учатся Маргоря (Маргарита Васильевна) Сабашникова и Паша (Прасковья Евгеньевна) Степанова. Первая - в будущем известная художница, жена Максимилиана Волошина, близкая подруга Вяч.И. Иванова и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, убежденная антропософка-штейнерианка. Вторая - дочь известного врача, в будущем - жена С.П. Мельгунова, выдающегося историка и политического деятеля. Маргоря читает Вере на переменах П. Верлена и Э. По, во многом формирует ее поэтический и художественный вкус. Паша с юности готовится к политической деятельности, участвует во всех общественных начинаниях.
«Высшие женские курсы» и «Приготовительный класс» добавляют в повествование персонажей иного рода - будущих революционеров. В «тайном обществе» Вера знакомится со студентом физико-математического факультета Львом Ивановичем Зильбербергом, который через несколько лет станет видным деятелем Боевой организации эсеров, руководителем убийства петербургского градоначальника фон дер Лауница. В 1907 г. его выдаст Азеф, и он будет казнен («один из семи повешенных», как представляет его в мемуарах Вера Николаевна с опорой на рассказ Л.Н. Андреева). Его сестра Евгения Ивановна, тоже посещавшая кружок, станет второй женой Б.В. Савинкова. Когда Бунины в самом начале эмиграции через Мережковских познакомятся с Савинковым и его женой, дамы встретятся как давно знакомые люди.
Таким образом, перед нами весь спектр общественно-культурной жизни Москвы (неизвестные мемуары Муромцевой-Буниной, с нашей точки зрения, вызовут большой интерес не только у филологов, но и у историков, а также культурологов, изучающих жизнь Москвы и московской интеллигенции), в котором важную роль играют сложные родственные и дружеские связи - создается живое ощущение, что вся московская интеллигенция - один большой круг родственников и друзей, вся (включая чиновников - отец Веры Муромцевой был податным инспектором) живет интенсивной творческой жизнью. Это «семейственность» «Войны и мира», помноженная на культурное и общественное бурление эпохи рубежа веков. Постоянные проекции в будущее (краткие справки о том, что станет с тем или иным упомянутым лицом после войны и революции) добавляют этому бурлению ощущение глубины и перспективы. Тайны судеб и истории проступают сквозь бытовые детали - как, собственно, и в бу- нинской «Жизни Арсеньева».
Поэтика неизвестных «Бесед с памятью» представляет особый интерес. Она ориентирована на только что созданную И.А. Буниным «Жизнь Арсеньева»; правда, В.Н. Муромцева-Бунина не стремится к той степени отчужденности героя, какую ставил своей целью Бунин [подробнее см.: Пономарев 2019а, 83-120]. Это все же мемуары, а не история современника, но, тем не менее - в силу специфики того круга, в котором проходили детство и юность мемуаристки, исторически ориентированные. Особое место занимает тема смерти, метафорически организующая текст. Начало «Детской» звучит так:
«Одно из первых сильных впечатлений моего младенчества был гробик на извозчичьей пролетке, который я видела из окошка нашей деревенской дачи. Гробик очень странный, кирпично-желтый, весь в пирамидках, довольно расплюснутых, которых, конечно, не было.
Умер мой старший брат Кока, четырехлетний мальчик, от которого в моей душе осталось только ощущение его, а в памяти картина: поле, он лежит ничком на траве в белой рубашке, а мама легонько толкает его своим светлым зонтиком» (РАЛ. MS 1067/145).
Начальный отзвук «Жизни Арсеньева» (напоминает смерть Нади, младшей сестренки главного героя, в первой книге романа) поддерживается дальнейшими повторяющимися деталями (сапожки Коки, которые очень нравились маленькой Вере на его фотографиях, звучат в унисон сапожкам, купленным маленькому Арсеньеву в первую поездку в город) и рассуждениями повествователя о пробуждении сознания: «Благодаря его смерти я стала почти одновременно чувствовать настоящее и прошедшее» (РАЛ. MS 1067/145).
Бунинские размышления о том, как возникает у ребенка чувство прошлого и память о нем, соединяются в тексте с мотивами избранности мемуаристки, что более характерно для символистских «детств» [подробнее см.: Пономарев 2019а]:
«Запомнилось: сыпучесть песка, твердость скамьи, моя младшая сестренка Маня в бежевом пальто, ясный безоблачный день и высокий, рослый человек весь в черном, с блестящим крестом на груди и в высокой тоже черной шляпе <...>. Он шел в сторону Храма Спасителя и направился прямо ко мне, а, подойдя, осенил меня широким крестом. Об этом много у нас говорили, и на меня это событие произвело такое впечатление, что я часто в детстве о нем думала, чувствовала в себе что-то особенное» (РАЛ. MS 1067/145).
Подробное описание сохранившихся в памяти событий, передающее детский взгляд на мир, чередуется в «Беседах с памятью» с аналитическими предложениями и абзацами, где звучит голос взрослой мемуаристки, например: «С переезда на новую квартиру, я считаю, кончается мое
младенчество и начинается детство, то есть время, когда я уже помню не отдельные картины, а течение моей простой жизни» (РАЛ. MS 1067/145). Эта двуплановая структура главной героини (синхрония - диахрония в отношении излагаемых событий прошлого) тоже ориентирована на «Арсеньева», где в одном предложении могут соединяться детское сознание и сознание взрослого эмигранта - человека старше пятидесяти, опытного и много повидавшего. Если у Бунина многоплановостью обладает только главный герой, то у Муромцевой-Буниной такова же структура и прочих персонажей - как часто появляющихся в тексте (в Тале Вокач, Нюте Березовской, Паше Степановой повествователь как бы прозревает будущее замужество и их «женскую» роль в русской культуре - не менее важную, чем мужская), так и единожды названных. Например, юная Вера впервые в жизни попадает в незнакомый московский дом - на вечер к Сабашниковым. Она конфузится, но ее выручает оказавшийся там сослуживец отца (больше в мемуарах он не упоминается):
«Ко мне подошел худой, маленький, во фраке господин, Джунковский, управляющий Казенной палатой в Курске, брат известного, расстрелянного большевиками. Он был сослуживец папы, сказал несколько лестных слов о нем, просил передать поклон, и от его любезных слов мне стало сразу хорошо, и я уже была в состоянии наблюдать и следить за собой» (РАЛ. MS 1067/194).
Речь идет о Николае Федоровиче Джунковском (1862-1916) - офицере, под влиянием учения Л.Н. Толстого перешедшем в гражданскую службу, видном чиновнике Министерства финансов, в будущем - сенаторе. Упоминание его брата Владимира Федоровича (1865-1938), служившего адъютантом великого князя Сергея Александровича, московским вице-губернатором и губернатором, товарищем министра внутренних дел, а затем ушедшего на фронт и закончившего войну генерал-лейтенантом, задает временную перспективу. Во-первых, в подразумеваемом подтексте (для тех, кто знает) остается тот факт, что упомянутый Николай Федорович, к счастью, не дожил до большевистского переворота, как его младший брат; во-вторых, выстраивается (еще во многом предстоящая обоим братьям) блестящая карьера государственных служащих Российской империи; в-третьих, упоминание расстрелянного брата накладывает Vorgeschichte большевистского террора на всех упомянутых в эпизоде людей. Нам не дают забыть, что вся эта подлинная московская жизнь вскоре кончится, ее место займут воронки и чекисты.
Точно так же в «Жизни Арсеньева» при описании революционной болтовни в полтавском земстве вдруг прорывается характерное для Бунина «воспоминание о будущем»: «<.. .> и еще один, по фамилии Мельник: весь какой-то дохлый, <.. .> но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, - много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то “хлебным диктатором”...» [Бунин 1952, 167].

Здесь двуплановость героев переходит в двуплановость изображения России, что очень характерно и для романа «Жизнь Арсеньева». Четко сформулированное в романе противопоставление прошлой России, величайшей сухопутной империи и одной из великих держав мира - России нынешней, большевистской, одичавшей и несущей дикость всему человечеству станет общим местом эмигрантской литературы 1930-х гг. Бунинский вопрос «Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским /.../?» [Бунин 1952, 62], вероятно, должен был прозвучать во второй книге «Бесед», захватывающей революционные события 1905 г. Но ив первой книге - благодаря таким «проекциям в будущее» - каждый рассказ о гимназических балах и домашних приемах, университетских диспутах и студенческих сходках (все эти слова вместе с обозначаемыми ими явлениями вскоре навсегда останутся в прошлом) обретает легкий ностальгический оттенок.
В жанровом плане - это несколько больше, чем мемуары, и несколько меньше, чем автобиографический нарратив, выдающийся образец которого - роман Бунина «Жизнь Арсеньева» - был Вере Николаевне хорошо знаком. Текст В.Н. Муромцевой-Буниной соединяет традиции бунинского метаромана с чрезвычайно популярной в эмиграции 1930-х гг. «житийной биографией» [Пономарев 2004], одним из примеров которой можно считать «Освобождение Толстого» [Пономарев 2019b, 123-138]. «Беседы с памятью» рассказывают о московской жизни как едином потоке, не выделяя из него великих или значительных деятелей, потому что, с точки зрения автора, каждый из упомянутых в книге людей обладает своим особым значением в контексте русской культуры. Это и попытка вспомнить, упорядочить, записать собственную жизнь, жизнь родных друзей и всех встреченных, чтобы не покрылась она «тмою беспамятства» - и одновременно повествование о том, как «было в России», чтобы потомки не забыли, как жила Москва до октябрьской катастрофы. Как роман «Жизнь Арсеньева» есть, в некотором роде, воскрешение прежней России.
Влияние И.А. Бунина на этот текст проявилось и непосредственно: первая редакция общего текста книги отредактирована его рукой (большей частью - это правка стилистики и грамматики, а также, как и в его собственных текстах, вычеркивание отдельных эпизодов или не относящихся к делу подробностей). Когда говорят о «бунинской школе» в литературе первой эмиграции, обычно называют Л.Ф. Зурова и ГН. Кузнецову, но нередко забывают еще одного автора - В.Н. Муромцеву-Бунину (эту двойную фамилию В.Н. Бунина использовала строго как литературный псевдоним). Первая большая книга, созданная под влиянием творчества Бунина и под непосредственным руководством мужа, помогла В.Н. Муромцевой-Буниной освоить крупную форму.
В настоящее время в ИМЛИ РАН готовится научное издание тома, в который войдет все творчество Муромцевой-Буниной. Ранние «Беседы с памятью», никогда до этого не публиковавшиеся, станут его главной жемчужиной.

Список литературы «Беседы с памятью» В.Н. Муромцевой-Буниной: неизвестная книга о детстве и юности
- Бунин. Жизнь Арсеньева. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. 388 с.
- Дэвис Р., Пономарев Е.Р. Комментарий // "Когда переписываются близкие люди.".. Письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун. 1934-1961. М.: Русский путь, 2014. 713 с.
- (а) Пономарев Е.Р. Две версии "младенчества": Вячеслав Иванов и Иван Бунин // Загадка модернизма: Вячеслав Иванов. Материалы XI Международной Ивановской конференции "Viacheslav Ivanov: the Enigma of Modernism". The Hebrew University of Jerusalem, May 5-7, 2019. М.: Водолей, 2021. С. 294-305.
- (b) Пономарев Е.Р. Преодолевший модернизм: Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода. М.: Литфакт, 2019. 337 с.
- Пономарев Е.Р. Россия, растворенная в вечности. Жанр житийной биографии в литературе русской эмиграции // Вопросы литературы. 2004. № 1. С. 84-111.
- Рогачевская Е. Литератор Вера Николаевна Муромцева // Emigrantma et cetera: К 60-летию Олега Коростелева / ред.-сост. Е.Р. Пономарев, М. Шруба. М.: Дмитрий Сечин, 2019. C. 753-774.