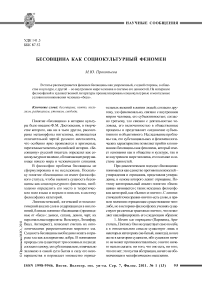Бесовщина как социокультурный феномен
Автор: Прокопьева М.Ю.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен бесовщины как укорененный, с одной стороны, в обще- стве и культуре, с другой - во внутреннем мире человека и системе его ценностей. На материале философской и художественной литературы проанализированы социокультурные и ментальные условия возникновения человека-«беса».
Бесовщина, ничто, нигилизм, радикализм, утопизм, свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/14974438
IDR: 14974438 | УДК: 141.5
Текст научной статьи Бесовщина как социокультурный феномен
Понятие «бесовщина» в историю культуры было введено Ф.М. Достоевским, в творчестве которого, как ни в чьем другом, рассмотрены метаморфозы нигилизма, являющегося отличительной чертой русского менталитета, что особенно ярко проявляется в кризисные, переломные моменты российской истории. «Бесовщину» русский писатель определял как социокультурное явление, обозначающее разрушающее начало мира и человеческого сознания.
В философии проблема бесовщины не сформулирована и не исследована. Поскольку понятие «бесовщина» не имеет философского статуса, чтобы выявить сущность бесовщины как социокультурного феномена, необходимо определить его место в теоретическом поле языка и морали и вписать в систему философских категорий.
Лингвистический, логический и гносеологический анализ слов и содержащихся в них понятий, близких понятию «бесовщина» (производные от «беса»: дьявол, сатана, демон, черт, их персональные корреляты: Вельзевул, Люцифер, Ваал, Антихрист), позволяет считать их онтологическими репрезентантами мирового зла. Сущность бесовщины необходимо искать в природе зла как альтернативе добра. В понимании природы зла существует три основных подхода: согласно одному, зло субстанциально, изначально заложено в самой сути бытия в силу его несовершенства и порождает множество отрица- тельных явлений в жизни людей; согласно другому, зло феноменально, связано с внутренним миром человека, его субъективностью; согласно третьему, зло связано с деятельностью человека, его включенностью в общественные процессы и представляет соединение субъективного и объективного. Исследование проблемы зла, его субстанциальных и феноменологических характеристик позволяет прийти к пониманию бесовщины как феномена, который имеет основания как в обществе и культуре, так и во внутреннем мире человека, его психике и системе ценностей.
При диалектическом подходе «бесовщина» понимается как единство противоположностей – утверждения и отрицания, представляя утверждение, в основе которого лежит отрицание. Поэтому категориальный анализ понятия «бесовщина» начинается с таких исходных философских категорий, как «бытие» и «ничто». С лингвистической точки зрения «ничто» есть слово, в прямом значении отрицающее существование чего-либо, но в историко-философских учениях существуют различные трактовки «ничто», что позволяет квалифицировать его следующим образом:
-
1. Ничто как отрицание (Парменид, Аристотель, Плотин). Оно не существует само по себе, а в относительном смысле существует лишь в некоторых категориях (не-белый, никогда), но все же не в категории сущности, ибо сущности ничего не может противопоставляться; о ничто ничего нельзя сказать: ни того, что оно есть, ни того, что его нет; это пустая абстракция, ничего не обозначающая в метафизическом мышлении.
-
2. Ничто как творение (А. Августин, И. Экхарт) . Божественное ничто оказывается Нечто, и в пустоте своей отрицательности связано с тем что , от бытия которого оно образовано, и следовательно, в мышлении понятие «ничто» зависит от содержания «что». Сотворенность же вещей «из ничего» обусловливает их изменчивость, которая предрасполагает к появлению зла.
-
3. Ничто как условие становления (буддизм, даосизм, Демокрит, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Ницше) . Выступает как место бытия, основа сущего, которое само по себе не имеет сущностного начала; пустота, которая является необходимым условием для существования множества, движения и изменения; ничто не существует, потому что не мыслимо; чистая возможность, пассивность и зависимость, и эти качества оно передает каждой конкретной вещи.
-
4. Ничто как экзистенция (И. Кант, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). Постоянно колеблющаяся граница, которая отделяет сознание от самосознания и также их соединяет, давая определенность. Ничто существует отдельно от человека, остается за границами человеческих сил, человек предстает перед Ничто в состоянии ужаса, но оно (ничто) не затягивает его, а направляет к сущему, а значит, и к самому себе. Человек становится носителем ничто, и в определенном смысле сам становится этим ничто.
Следовательно, «ничто», являясь основой сущего, не имеет сущностного начала, дает некую определенность, негативную или позитивную, проявляющуюся в становлении. Общую языковую основу с понятием «ничто» имеет «нигилизм» (лат. nihil), имеющий и место, и имя, и представляющий собой абстрактное мышление, лишенное рефлексии, «голое» отрицание, негативность, обоготворение пустоты. Ничто имеет более позитивное значение, чем нигилизм, ибо последний всегда представляет только отрицание. Ничто породило нигилизм и стало его философской основой. По мнению Хайдеггера, «слово “нигилизм” говорит о том, что в том, что именует оно, существенно nihil, Ничто. Нигилизм означает: Ничто же несть со всем во всех аспектах. А “все” – это сущее в целом. …Нигилизм означает, что ничто же несть с сущим как с це- лым. Однако сущее в том, что оно и как оно, – из бытия. Если положить, что всякое «есть» – из бытия, тогда сущность нигилизма состоит в том, что ничто же несть с самим бытием» [12, с. 75–76].
Кроме нигилизма сущностными свойствами бесовщины являются радикализм и утопизм. Впервые разрушительный религиозно-политический радикализм появляется в истории России в эпоху церковного раскола XVII века, который привел к проповеди самосожжения, бунта против царской власти и государства. Вторая эпоха русского радикализма появилась уже в XIX–XX веках, когда часть интеллигенции становится радикальнореволюционно настроенной и направляет свою энергию не только против царской власти и церкви, но и против всей традиционной России и русского народа. Третья эпоха русского радикализма пришлась на 90-е годы XX века, это так называемый демократический радикализм, который породил либеральный беспредел, разгром и расчленение страны.
А.И. Демидов усматривал в радикализме тенденцию, характеризующуюся «устойчивым предпочтением решительных действий в политике всем иным действиям ...уверенностью в наличии быстрых и простых решений сложных проблем и стремлением к их реализации ...непоколебимым чувством собственной правоты» [4]. Радикалы не поступаются принципами, они всегда смотрят в суть, в корень дела (лат. radix – «корень»), применяя при этом крайние меры, в обществе они играют дестабилизирующую роль, способствуют конфронтации политических сил, провоцируют углубление конфликтов. Таким образом, радикализм есть нарушение (вольное или невольное, сознательное или бессознательное) истинной меры качества любой человеческой практики, ведущей к ее самоотрицанию. Нигилизм и радикализм, используемые в сфере политики, представляют политические установки, обусловливающие общественно-политическую практику и систему политических действий, основанные на догматизме мышления и вере в сакральные лозунги и призывы, отказе от позиции компромисса и диалога, выбирающие для этого насильственные средства и пренебрегающие ненасильственными.
Радикализм можно считать принципом утопического сознания, так как радикал – это человек, который без всякой жалости готов разрушить мир «неправды», свергнуть «антинародный режим», чтобы построить «город солнца», страну-«утопию». Утопическое сознание основывается на вере, а потому позволяет пренебречь строгими аргументами о реальности гипотетического будущего, а установка на превращение идеала в действительность приводит к конструированию социальных утопий.
Утопизм воспринял от утопии разделение мира на истинный и неистинный. Преодоление барьеров между миром таким, какой он есть, и таким, какой он должен быть, создает предпосылки не принимать этот исторически сложившийся мир, а, отвергнув и разрушив его, создать заново такой мир, который соответствует заданным принципам. Тут-то утопия и утрачивает свое позитивное начало: не имея истории, ценности заменяются целями, а цели по мере своего осуществления становятся средством для последующих целей. Потому идеальный строй поднимается над этической сферой, «превращается в над-этическую силу, которой должно быть “все позволено”, где нет места свободе, а только порядок, который очень строго регламентирует человеческую жизнь» [10, с. 85]. Утопические проекты переделывают то конкретное общество, которое они отрицают, в чем проявляется переход позитивной утопии в негативный утопизм.
Современный радикализм и утопизм являются своеобразными «превращенными формами» видения и осмысления социальных идеалов, которые стремятся разрушить национальную традицию, подчинить народ служению утопическим идеологическим проектам, осуществить неотвратимую смену одних форм общественного и государственного устройства другими. В отличие от реформизма утопизм ставит задачу не совершенствования действительности, а ее уничтожения и создания новой, соответствующей определенным идеалам. Утопист, по мнению Е. Шацкого, «может быть только дуалистическим. Это человек, всегда рассуждавший по схеме “или-или”. Он думает не об изменении общественных отношений, но о замене плохих отношений хорошими. Он сжигает мосты между иде- алом и действительностью прежде, чем они достроены» [14, с. 35].
Презрев реальный мир, люди создают себе иллюзорные, утопические миры, видя в них абсолютную, вечную истину бытия. Но эти миры, а с ними и абсолютная истина начинают рушиться, разрушая и веру в разум и истину. В результате мир утрачивает всякий смысл и ценность, ибо нет основы для цели, ценности и смысла, но тем самым утрачивается и основа для творчества, без чего жизнь человека превращается в «механическое» подражание жизни, что ведет к деградации, упадку, Ничто. Тем самым, по мнению Ницше, мысль, которая расчищает место для того, что является пока еще неизвестным и отдаленным будущим, и является нигилизмом – полностью лишенным иллюзий представлением о мире [9, с. 620].
Следовательно, выстраивается нигилистический тип культуры, характерный для России XIX века и являющийся благодатной почвой для интеллигенции, выступающей против консервативных ценностей (государства, нации, религии) и перерастающий в метафизический бунт [6] – протест против Бога. Вместо Бога в таком типе культуры выступает абсурд – освобождение от утешительных иллюзий о «том свете» и о торжестве справедливости в век прогресса, а существенными чертами абсурдного мироощущения становятся «ненависть», «тошнота», «разлад» с окружающим миром. Человек, являющийся существом, которое отрицает для того, чтобы утвердить свое бытие и свою особость, обречен бунтовать, а значит, обречен к саморазрушению, он становится человеком-«бесом».
П.Я. Чаадаев, анализируя исторические тенденции развития России и рассуждая о специфике русской ментальности (мы употребляем понятия «менталитет» и «ментальность» как тождественные, обозначающие склад ума, мировосприятие, мышление, психологию, «способ мыслить, оценивать действительность, принимать решение» [8, с. 312] как отдельного человека, так и групп, общностей людей), увидел основу российской жизни в отсутствии гарантий для свободы личности, в подавлении человека и в результате – постоянную готовность русских людей к бунту, который перерастает во всеобщий разброд, хаос, не знающий ни границ, ни форм, ни норм [13]. В свою очередь, Н.А. Бердяев, опираясь на исторический опыт развития России, выделял противоречивые особенности русского национального самосознания: «Деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядо-вание и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологичес-ки-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» [3, с. 14–15].
Национальный характер, как и социальный, являются формами проявления человеческой энергии, возникающей в процессе адаптации потребностей человека к определенному образу жизни и выбирающей то или иное русло при данном общественном строе [11, с. 355]. Эта человеческая энергия проявилась в России в нигилизме – у интеллигенции и православной религиозности – у народа. Но если национальный характер выражает общественные потребности и общественные интересы бессознательно, то в социальном характере они рефлексируются, приобретают идеологическую направленность, что и проявилось в большей степени в русской интеллигенции. «Интеллигентские переживания, – утверждает С.М. Климова, – становятся тем “бытием”, которое и является трансцендентальной субъективностью в ее смысло-кон-ституирующей деятельности» [7, с. 68]. Русская интеллигенция всегда стремилась создать для себя тоталитарное, целостное миросозерцание, в котором правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью, и через это тоталитарное мышление искала совершенной жизни. Но, стремясь к прогрессу, революции, последним достижениям мировой цивилизации, интеллигенция подходила к глубокому и острому осознанию пустоты, уродства, бездушия и мещанства результатов общественного прогресса, возникновению технической цивилизации, весьма далекой от идеалов человечности.
На «благодатной почве» российской истории, таким образом, рождается и становит- ся распространенным тип человека-«беса», вобравший в себя черты религиозно-мистического прототипа (дьявола, сатаны, беса и т. д.) и особенности русского менталитета, явившийся «исчадием ада», «злом во плоти». Русская интеллигенция XIX века выступает антропологическим носителем бесовщины. Главной, неотъемлемой ее чертой становится нигилизм, в основе которого лежит православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве. Нигилисты пытались отрицанием «расчистить почву» от неприемлемого, ненужного, создать ничто, пустоту для формирования нового что.
В качестве сущностных характеристик человека-«беса» можно выделить нигилистическое отношение к дворянской культуре и идеологии либерализма; фанатичность, состоящую в безусловной преданности делу служения народу, в принципиальности, переходящей в догматизм; партийность, то есть пренебрежение истиной ради «идеи»; оппозиционность, состоящую в отщепенстве, отчуждении от государства и враждебности ему, переходящую в беспочвенность (безродность); деспотизм и насилие, базирующиеся на определенной идеологии; альтруизм и донкихотство, проявляющиеся в служении нуждам народа ради осуществления абсолютного народного счастья; атеизм, трансформирующийся в религию служения народу; мужество и силу духа, выросшие из «самочувствия мученичества» и породившие самообожествление.
Культура пытается смягчить конфликт между человеком и социальной реальностью, но люди-«бесы» являлись создателями «отрицательных доктрин», были гораздо сильнее в критике, отрицании, отбрасывании устоявшихся социокультурных ценностей и норм, чем в создании новых, хотели освобождения личности, во имя чего «низвергали религию, философию, искусство, мораль, отрицали дух и духовную жизнь. Но этим они подавляли личность, лишали ее качественного содержания, опустошали ее внутреннюю жизнь, отрицали право личности на творчество и на духовное обогащение» [1, с. 47]. Личность разрушала себя изнутри, лишалась национальной и духовной самоидентичности.
Нигилизм, радикализм, утопизм являются не только принципами, организующими общественную и личную жизнь, но и ценностным содержанием общественного и индивидуального сознания. Если они становятся доминирующими ценностями человека-индивида, то он превращается в носителя и субъекта бесовщины, в человека-«беса», что проявляется в его сознании и поведении в форме своевольной свободы.
Человек, как это убедительно показал экзистенциализм, является свободно выбирающим существом, но путь свободы трагичен, ибо человеку присущи иррациональные стремления – греховные помыслы, бессознательные влечения Эрос и Танатос, эгоистические желания, слепое отрицание духовных ценностей. Поэтому человек может не только сознательно выбирать закон права и морали, но и отрицать его, и тогда «свобода переходит в своеволие, в бунтующее Самоутверждение» [2]. Вся жизнь человека представляет испытание человеческой свободы, борьбу человека с разного рода искушениями. Сущностью бесовщины как раз и является искушение человека свободой.
Взяв за основу библейскую историю искушения Христа, Достоевский переосмыслил ее в Легенде о Великом Инквизиторе. Tpи иcкyшeния, кoтopым подвергал дьявoл Xpиcтa в пycтынe, были нaпpaвлeны пpoтив cвoбoды чeлoвeчecкoгo дyxa, и каждое из искушений символизирует тот или иной лик бесовщины.
Первое искушение – это искушение материальным благополучием («Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» [Мат. 4 : 3]), соотносимого с одержимостью идеей «хрустального дворца» (Н.Г. Чернышевский). Люди-«бесы», создавая проекты счастливого общества, ведут людей к «хрустальному дворцу», вовлекая их в хаос и направляя к антропологической границе, переступая которую, человек теряет индивидуальность, свободу, духовность. «Роковая диалектика» своевольной свободы приводит, как писал Н.А. Бердяев о «бесах»-революционе-рах, изображенных Достоевским, «к системе «безграничного деспотизма» Шигалева, П. Верховенского, Великого Инквизитора. Это – одна и та же система. В ней совершается отречение от свободы человеческого духа во имя счастья людей» [2, с. 431].
Второе искушение есть искушение чудом, тайной и авторитетом («Потом берет Его диавол в святый город и поставляет Его на крыле храма, И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да и не преткнешься о камень ногою Твоею” [Мат. 4 : 5, 6]) символизирует путь в “подземелье” личного духа. Трагическое метание “подпольных” людей определяется двойственностью, антиномичностью их натуры: злоба и доброта, рационализм и иррационализм, здравомыслие и атеизм, скептицизм и романтизм, человеконенавистничество и восторженное мечтательство о благодеяниях для всего рода человеческого, самомнение и мнительность, эгоизм и альтруизм. Все эти противоположные качества подпольного человека, концентрируясь в Я, становятся содержанием внутреннего мира человека «подполья». Люди подполья – «...невольники, хотя и созданы бунтовщиками....Бунтовщики слабосильные, собственного бунта не выдерживающие....Неспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей» [5, с. 268– 269], становящихся «бесами» и создающих духовный и социальный суррогат жизни, демонстрирующей якобы свободу своего выбора и самостоятельность поступка, нежелание превращаться в «винтик» или «штифтик». Но это свобода «от», а не свобода «для». Вместо внутренней личной свободы человек-«бес» обретает чувства страха, бессилия, тревоги, вражды к людям.
Третье искушение представляет искушение властью («диавол… показывает Ему все царства мира и славу их, И говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» [Мат. 4 : 8, 9]), символизирует путь к сверхчеловеку. Человек-«бес» претендует на то, чтобы играть роль Бога, а возведенный в ранг земного бога, начинает относиться к другим людям как к предмету, винтику, средству для достижения своих целей. Сознательный выбор зла, самоутверждение в роли Бога ведет к тому, что свобода оборачивается своеволием, которое разрушает моральность человека, к демонизации души, политике организованного насилия над людьми, что не раз демонстрировали в истории деспоты, диктаторы, фюреры, генсеки.
Три искушения Христа в Легенде о Великом Инквизиторе развенчивают различные искушения свободы: свободу ума, которая превращается в голый рационализм; свободу воли, которая превращается в отрицание общечеловеческих ценностей; свободу желаний, которая превращается в разрушительный эгоизм звериности и сладострастия. По Достоевскому, свобода выбора не является самоценностью, а должна быть соединена с общечеловеческой нравственностью, содержание которой воплотилось в христианском учении о ценностях. Три искушения свободы представляют собой три формы бесовщины, водворенной в индивидуальную и общечеловеческую жизнь человека.
Список литературы Бесовщина как социокультурный феномен
- Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма/Н. А. Бердяев. -М.: Наука, 1990. -224 с.
- Бердяев, Н. А. Миросозерцание Достоевского/Н. А. Бердяев//Бердяев, Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека/Н. А. Бердяев. -М.: Изд-во АСТ; Харьков: Фолио, 2004. -С. 387-528. 3. Бердяев, Н. А. Русская идея/Н. А. Бердя-
- Бердяев, Н. А. Русская идея/Н. А. Бердя-ев//Бердяев, Н. А. Самопознание: Сочинения/Н. А. Бердяев. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1997. -С. 11-248.
- Демидов, А. И. Политический радикализм как источник правового нигилизма/А. И. Демидов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ufnovgu.narod.ru.
- Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман в четырех частях с эпилогом: Ч. 1-2/Ф. М. Достоевский. -М.: Сов. Россия, 1987. -352 с.
- Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: пер. с фр./А. Камю. -М.: Политиздат, 1990. -415 с.
- Климова, С. М. Русская интеллигенция: маятник бинарного сознания/С. М. Климова//Человек. -2006. -№ 3. -С. 62-71.
- Краткий словарь иностранных слов. -М.: Рус. яз., 2005. -626 с.
- Ницше, Ф. Воля к власти/Ф. Ницше//Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии мора-ли. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афоризмы: пер. с нем./Ф. Ницше. -Минск: Хар-вест, 2003. -С. 587-919.
- Флоровский, Г. В. Метафизические предпосылки утопизма//Вопросы философии. -1990. -№ 10. -С. 78-98.
- Фромм, Э. Бегство от свободы/Э. Фромм. -Минск: Харвест, 2003. -384 с.
- Хайдеггер, М. Слова Ницше «Бог мертв»/М. Хайдеггер//Хайдеггер, М. Ницше и пусто-та/М. Хайдеггер; сост. О. В. Селин. -М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. -С. 9-78.
- Чаадаев, П. Я. Философические письма/П. Я. Чаадаев//Сочинения/П. Я. Чаадаев. -М.: Правда, 1989. -С. 15-296.
- Шацкий, Е. Утопия и традиция»: пер. с польск./Е. Шацкий; общ. ред. и послесл. В. А. Ча-ликовой. -М.: Прогресс, 1990. -456 с.