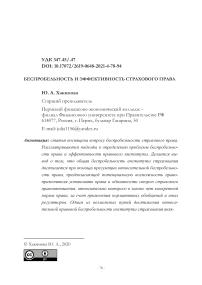Беспробельность и эффективность страхового права
Автор: Хакимова Ю.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу беспробельности страхового права. Рассматриваются подходы к определению проблемы беспробельности права и эффективности правового института. Делается вывод о том, что общая беспробельность института страхования достигается при помощи презумпции относительной беспробельности права, предполагающей потенциальную возможность правоприменителя установить права и обязанности сторон страхового правоотношения, относительно которого в законе нет конкретной нормы права, за счет применения нормативных обобщений и иных регуляторов. Одним из возможных путей достижения относительной правовой беспробельности института страхования является подготовка и принятие Страхового кодекса РФ как комплексного кодифицированного акта, призванного на институциональном уровне регулировать разнородные по содержанию отношения, опосредованные особым видом деятельности - страхованием.
Институт страхования, презумпция относительной беспробельности права, эффективность института страхования
Короткий адрес: https://sciup.org/147236824
IDR: 147236824 | УДК: 347.45/.47 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-4-78-94
Текст научной статьи Беспробельность и эффективность страхового права
Проблема беспробельности права традиционно входит в цикл общетеоретических научных разработок, поскольку она тесно связана с правопо-ниманием вообще. По сути, все концепции, обосновывающие беспробель-ность или, наоборот, пробельность права, так или иначе лежат в плоскости конкретной научной школы понимания права: нормативистской, социологической, психологической или школы естественного права1.
Рассмотрение проблемы беспробельности права на отраслевом или институциональном уровне - довольно редкое явление для современных исследований. Не стала исключением и цивилистическая наука, выдвигающая перед собой чаще всего другие цели2. При этом однозначный ответ на вопрос о пробельности или беспробельности права быть дан не может, поскольку он строго обусловлен конкретными научными подходами. В этом смысле интересна позиция П. Клюга, по мнению которого спор о том, пробельно или бес-пробельно право, не имеет никакого смысла в силу диалектической взаимосвязанности и взаимообусловленности всего: право пробельно и одновременно беспробельно3.
Известно, что немецкая правовая доктрина еще в конце XIX века признала пробельность гражданского законодательства. Так, Г. Дернбург, один из ведущих немецких пандектистов, в свое время отметил «имманентную пробельность гражданского законодательства»4, при этом тема пробелов так или иначе относилась к числу «табуированных»5. По меткому замечанию О. Губера, в процессе правоприменения судья «должен будет признать, что писаное право имеет пробелы, которые нельзя заполнить толкованием. И как только он это признает, он будет принимать решение исходя не из беспробельности закона, а из беспробельности правопорядка в целом»6. Таким образом, зарубежные исследователи исходили из того, что только нормативная система «писаного права» может содержать пробелы, в то время как правопорядок беспробелен. В частности, Р. Саватье по этому поводу отмечал: «В письменном праве пробелы неизбежны. Право же не может иметь пробелов»7.
Несколько иная позиция отражена в трудах позитивистов, которые традиционно отождествляют право и закон. Однако внутри лагеря позитивистов также встречаются различные мнения по вопросу существования пробелов в праве. К примеру, К. Бергбом писал следующее: «...право никогда не нуждается в пополнении извне, ибо оно в любую минуту полно: его плодовитость, его логическая сила растяжения в каждый момент покрывает весь запрос и правовые решения»8. При этом под «логической силой растяжения» понималось, по сути, безграничное толкование закона. То есть пробела быть не может, так как толкование действующего закона позволяет решить любую из ситуаций, возникающих в обществе. По поводу «опасности» толкования писал Ч. Беккариа: «Нет ничего опаснее, чем аксиома, что следует руководствоваться духом закона»9. Такая аксиома, по мнению М. А. Унковского, может «превратить закон в нечто подобное дельфийскому оракулу, издававшему неопределенные звуки и произносившему темные слова, смысл которых предоставлялось толковать каждому как ему угодно по формуле “понимай как хочешь”»10.
Некоторые представители позитивизма связывали беспробельность права с безграничными возможностями судьи. В частности, Ф. Регельсберк исходил из того, что любая абстрактная норма права не в состоянии предусмотреть все вариации соответствующих общественных отношений, но поскольку судья, рассматривая конкретное дело, не может руководствоваться этим обстоятельством и так или иначе должен рассмотреть дело по существу, то, следовательно, право беспробельно11. Аналогичный взгляд отражен в тру- дах А. Л. Боровиковского: «Решение, не противоречащее закону, есть решение, согласное с законом»12.
Однако среди позитивистов встречается и иная точка зрения. К примеру, по мнению Е. В. Васьковского, позитивное право может содержать пробелы: когда возникает ситуация, не урегулированная нормами права, следует искать схожие нормы права, регулирующие аналогичный случай13. «Пробелы, - пишет он, - следует восполнить. Но как? Обращение за разъяснением и дополнением к законодателю вело бы к замедлению дела, к навязыванию законодателю роли судьи и к изданию законов, ранее не известных гражданам»14. Весьма сходную позицию в этом вопросе занял и Н. М. Коркунов, с точки зрения которого «если единства логического нельзя найти в самом законодательстве, его приходится приписывать суду самостоятельно, и это, конечно, творческая деятельность»15. Такая миссия суда предопределена тем объективным обстоятельством, что, по меткому замечанию Г. В. Демченко, закон не в силах охватить всю изменчивость жизни, поэтому задача законодателя - «дать общее руководство, ввести в необходимые пределы деятельность суда, указать ему пути и средства действия»16.
По этому поводу Б. Виндшейд в свое время отмечал: «При пробелах необходимо, исходя от слов закона, плести дальше мысли законодателя, следствием чего может получиться аналогия (расширение закона): наука, однако, лишь должна додумывать мысли законодателя, а не подсовывать ему собственные мысли. Судья должен... полнее вдуматься в душу законодателя и понять, как бы тот сам выразил свое мнение, если бы обратил внимание на тот вопрос, о котором он не подумал, создавая закон»17.
Советский период развития учения о беспробельности права характеризуется признанием беспробельности правопорядка, но не закона. Так, С. С. Алексеев отметил следующее: «Беспробельность правопорядка в целом характеризуется как раз тем, что “тело” действующего права образуют не только сами по себе конкретные юридические нормы, но и лежащие в их основе и “пронизывающие” их правовые идеи»18. Обозначенная ученым-правоведом идея заключается в том, что, кроме собственно закона, есть еще и некоторые общие принципы справедливости, законности и т.д., представляющие своего рода исходные постулаты концепции естественного права. Именно сторонником концепции естественного права Р. Иерингом была разработана идея логической замкнутости права, базирующаяся на следующем постулате: «...правовые положения суть только самые внешние практические верхушки права, не исчерпывающие ни количественно, ни качественно его действительного содержания»19. Суть процитированного высказывания сводится к утверждению беспробельности права ввиду допустимости его логического развития, хотя пороки позитивного права этой концепцией не исключаются.
Иной взгляд на проблему пробельности можно встретить в рассуждениях Е. Эрлиха. По его мнению, «всякая система твердо установленных правил поведения по собственной своей природе имеет пробел», поскольку устаревает в момент, когда она только создана20. Эту идею объективной пробельности права, хотя и в весьма сдержанной форме, «подхватили» и некоторые советские ученые-юристы. Так, Ф. В. Тарановский21, а вслед за ним и М. Д. Шаргородский22 напрямую заявляли о существовании безусловных пробелов в позитивном праве. Выступая с критической оценкой концепции беспробельности права, П. И. Люблинский писал о некорректном отождествлении в этой концепции права и закона23.
Таким образом, можно констатировать, что учение о беспробельности права в своей исторической, хронологической последовательности опосредуется чередой концепций: концепцию беспробельности права сменяет концепция бесконечной «растяжимости» права, допускающая аналогию и толкование, которую в свою очередь сменяет социологическое правопонимание и признание объективно существующих пробелов.
В статье 18 Конституции РФ закреплено следующее правило поведения самого общего характера: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»24. Из этого конституционного постулата следует, что именно права и свободы определяют содержание законов. В этом смысле право относительно беспробельно, поскольку правоприменитель, столкнувшись с ситуацией, прямо не урегулированной конкретной нормой права, но входящей в сферу правового регулирования, должен исходить из общего смысла законодательства. Стало быть, важнейшая задача правоприменителя - установить, входит ли спорная ситуация в сферу правового регулирования. При положительном ответе на данный вопрос можно утверждать, что сам факт «вхождения» спорной ситуации в эту сферу равнозначен отсутствию по этому поводу пробела в праве. Так, в научной литературе отмечается: «Право как нормативная регуляция не сводится к нормам или к их системе. Юридическая норма есть одно из ее проявлений, один из носителей важнейшего свойства права. Другим носителем данного свойства права выступают нормативные обобщения. ...Это нормативные регулятивные средства, которые в сжатом, концентрированном виде выражают содержание права. Такими средствами являются правовые презумпции, принципы, цели, задачи, дефиниции и т.п.»25. Учитывая весьма посредственное воздействие указанных нормативных регуляторов на общественные от- ношения, следует исходить из корректной очередности применения этих регуляторов. Очевидно, что в приоритете - норма права, содержащая конкретную модель поведения. Поэтому при обнаружении правовой неопределенности первостепенное значение среди иных регуляторов имеет аналогия закона.
Смысл презумпции относительной беспробельности права заключается в предположительной возможности установить права и обязанности сторон правоотношения, относительно которого в законе нет конкретной нормы права. Однако даже в ситуации неполноты правового регулирования «бес-пробельность» обусловлена тем обстоятельством, что само отношение входит в сферу правового регулирования, а значит, для него может быть найдено подходящее правило поведения за счет применения нормативных обобщений и иных регуляторов.
Важно отметить, что отраслевые законодательства, использующие аналогию закона и аналогию права, в некотором смысле беспробельны, поскольку система норм-принципов, существующих в рамках каждой отрасли, позволяет снять эту проблему26. Несмотря на то что нормы-принципы характеризуют, как правило, отдельные отрасли права, это не исключает необходимости и возможности создания системы принципов в отношении отдельных институтов. Сказанное вовсе не означает необходимости обеспечения нормами-принципами каждого института гражданского права. Однако институциональная специфика позволяет говорить о потребности института страхования в нормах-принципах, опосредующих страховые правоотношения.
На основании изложенного можно заключить, что де-юре действующее отечественное гражданское законодательство беспробельно ввиду существования в нем специальных инструментов - например, аналогии закона и аналогии права, норм-принципов, способов и приемов толкования и т.д., позволяющих моментально восполнять правовые пробелы, однако де-факто пробельность имманентно присуща гражданскому законодательству, являющемуся одним из самых динамичных в системе российского законодательства.
Иными словами, гражданское законодательство пробельно, а гражданский правопорядок беспробелен.
В Концепции развития положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре страхования27 термин «эффективность» и производные от него используются девятнадцать раз и, как правило, в следующем контексте: институт страхования должен «эффективно защитить права и законные интересы застрахованных лиц». Вместе с тем изначально философское содержание термина «эффективность» требует конкретизации с учетом институциональной специфики. Иными словами, необходимо ответить на вопрос: а что такое эффективность института страхования и каковы ее критерии? Далее неизбежно напрашивается вопрос: а эффективен ли ныне действующий корпус норм, составляющих институт страхования?
Учитывая, что «эффективность» в переводе с латыни означает «производительность», следует заметить, что суть эффективности - в достижении результата, значительно превосходящего потраченные на него ресурсы. К слову, именно такой подход фигурирует и в иных науках, наиболее часто оперирующих данным термином, - экономике и менеджменте28. Как правило, понятие эффективности опосредовано тремя категориями: цель - затраты (или ресурсы) - результат. Как справедливо замечает И. П. Кожокарь, понимание эффективности права и ее составляющих (цель, затраты, результат) предопределено конкретным типом правопонимания29. Так, позитивизм рассматривает эффективность права с позиции действенности правовых норм30;
социалистический позитивизм - с позиции достижения социальной цели, имманентно связанной с волей экономически господствующего класса31; школа естественного права - с позиции максимально возможной в обществе свободы личности; плюралистический подход предполагает рассмотрение эффективности с позиции политических, экономических, психологических, социальных и иных показателей.
Очевидно, что эффективность права предопределена многими условиями: и социальной полезностью норм, их способностью обеспечивать конституционные права и свободы граждан; и достижением целей, которые ставил законодатель при принятии соответствующих норм права; и общественным принятием соответствующей нормы; и, наконец, качеством нормативноправового материала, то есть минимальным количеством содержащихся в нем дефектов. В этом смысле можно констатировать, что эффективность права станет однозначно выше, если законодательство будет содержать как можно меньше пробелов.
Сложность с точным определением эффективности или неэффективности института страхования связана с тем, что в главе 48 ГК РФ цель правового регулирования соответствующих отношений не закреплена, однако ее описание содержится в пункте 1 статьи 3 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: «Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев». Очевидно, что глава 48 ГК РФ и закон о страховом деле преследуют все-таки разные, хотя и смежные цели правового регулирования. В то же время, с учетом правил законодательной техники и общего принципа построения части второй ГК РФ, введение в 48-ю главу нормы, устанавливающей цели правового регулирования отношений, вытекающих из страхования, нецелесообразно: указание целей правового регулирования видится более удачным в рамках отдельного нормативноправового акта, например Страхового кодекса Российской Федерации.
Представляется, что в современных условиях эффективность института страхования имманентно связана: с расширением свободы договора страхования, позволяющей участникам страховых сделок более гибко определять их условия; определенностью содержания договоров страхования; усилением гражданско-правового регулирования информационных обязанностей сторон страхового правоотношения; обеспечением баланса частноправового и публично-правового регулирования института страхования; цифровизацией данного института. Все это в совокупности должно способствовать максимальной защите интересов сторон страхового правоотношения.
По образному высказыванию П. В. Крашенинникова, «кодификация -это снос старого и постройка нового дома, но с частичным использованием полученных от сноса материалов»32. Преимущества кодификации в сравнении с иными способами систематизации законодательства хорошо известны и широко отражены в научной литературе: кодификация - это «наиболее совершенная в техническом отношении рациональная форма систематизации нормативного массива, а также форма целенаправленного правотворчества»33. Рассматривая кодификацию как инструмент повышения эффективности института страхования, мы предлагаем далее некоторые размышления по этому поводу.
По справедливому замечанию В. С. Белых, одной из задач, стоящих перед отечественным законодателем в обозримом будущем, является разработка кодифицированных актов не на отраслевом, а на институциональном уровне. В числе таких актов В. С. Белых называет банковский кодекс, страховой кодекс, кодекс о банкротстве. При этом ученый, отстаивая необходимость разработки и принятия в том числе страхового кодекса, понимает чрезвычайную сложность той работы, которая ложится на плечи законодателя: «...от разработчиков, а в конечном итоге и законодателя, требуется скрупулезная (даже филигранная) нормотворческая работа. В противном случае можно действительно прийти к необходимости издания банно-прачечного кодекса (или трамвайно-троллейбусного кодекса либо трубопроводного кодекса)»34.
Сходную позицию в этом вопросе занимает и В. Ф. Попондопуло, который рассуждает о комплексных кодексах, отличающихся тем, что они регулируют разнородные по своему содержанию отношения, возникающие в связи с определенным видом деятельности. По мнению ученого, к числу таких кодексов мог бы быть отнесен и страховой35.
Специалисты в сфере страхового права зачастую обращают внимание на необходимость радикальных изменений отечественного страхового законодательства. Так, по мнению С. В. Дедикова, следует разработать и принять специальный федеральный закон о договоре страхования36. С такой позицией сложно согласиться, поскольку подобный подход не снимает большинства нормотворческих проблем и не влияет на повышение эффективности института страхования. Иной подход можно встретить в работе Т. М. Рассоловой, которая предлагает рассмотреть вопрос о принятии страхового кодекса в связи со значительным усложнением страховых правоотношений и их комплексным характером. По ее мнению, необходимо структурировать все нормы страхового законодательства, разделив их на четыре части, посвященные соответственно общим положениям, формам и видам страхования, отдельным видам страховых отношений и порядку лицензирования и прекращения страховой деятельности в Российской Федерации37.
С необходимостью разработки страхового кодекса соглашается и Т. В. Котляр: при наличии в действующем страховом законодательстве РФ значительного количества «белых пятен», «цивилизованный страховой рынок невозможен». Для решения этой проблемы следует принять «страховой ко- деке, в котором были бы учтены все пробелы действующего законодательства»38. Поддержку обозначенной позиции можно обнаружить и в иных научных изысканиях по проблемам страхового законодательства39: приведение отечественного страхового права в порядок ассоциируется именно с принятием Страхового кодекса РФ40.
Как известно, самым ярким примером кодифицированного страхового акта в зарубежных странах является Страховой кодекс Франции, который объединяет в себе все вопросы, имеющие отношение к страховому праву. Исследования по страховому праву, предусматривающие сравнительноправовой анализ, зачастую апеллируют именно к Страховому кодексу Франции41, который состоит из пяти книг: книга I - договор страхования, книга II - обязательное страхование, книга III - страховые организации, книга IV -отдельные виды страхования, книга V - страховые посредники. Кроме Франции, кодифицированное страховое законодательство встречается и в некоторых штатах Америки. Речь в первую очередь о штатах Вашингтон, Джорджия, Калифорния, Мэн, Монтана.
Думается, что в современных условиях, когда проблема тщательного совершенствования страхового законодательства не только назрела, но и обострилась, создание Страхового кодекса Российской Федерации является важным инструментом повышения эффективности института страхования и создания условий для интенсивного развития цивилизованного страхового рынка.
Список литературы Беспробельность и эффективность страхового права
- Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2001. 752 с.
- Архипова А. Г. Применение правил о наследовании к страховой выплате по договору личного страхования // Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930-2020) / отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М.: Статут, 2020. С. 94-115.
- Ахвледиани Ю. Т. Роль науки в развитии страхового бизнеса в России // Финансовый менеджмент в страховой компании. 2007. № 1.
- Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер., вступ. ст. М. М. Исаева. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 464 с.
- Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: моногр. М.: Проспект, 2009. 432 с.
- БлэкДж. Экономика: толковый словарь: англо-русский / общ. ред. И. М. Осадчая; пер. А. В. Щедрин [и др.]. М.: ИНФРА-М: Весь мир, 2000. 829 с.
- Боровиковский А. Л. Отчет судьи. Т. 1: 1. Чиншевое право; 2. Третьи лица в процессе; 3. Закон и судейская совесть. СПб.: тип. «Правда», 1909. XIV, 355 с.
- Варламова Н. В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции // Правоведение. 2009. № 1. С. 212-232.
- Васьковский Е. В. Правотворческая деятельность новых судов в сфере процесса и права гражданского. Пг.: Сенат. тип., 1915. 41 с.
- Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. 508 с.
- Внедоговорные обязательства в международном частном праве: мо-ногр. / В. Н. Борисов, Н. В. Власова, Т. П. Лазарева [и др.]; отв. ред. И. О. Хлестова. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2017. 160 с.
- Голубцов В. Г., Кузнецова О. А. Цель цивилистического диссертационного исследования // Методологические проблемы цивилистических исследо-
- ваний: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Габов, В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. М.: Статут, 2016. С. 53-77.
- Голушко Г. К., Дедиков С. В. О системе страхового законодательства // Юридическая и правовая работа в страховании. 2006. № 1. С. 16-35.
- Дедиков С. В. Проект подготовки закона о договоре страхования // Юридическая и правовая работа в страховании. 2008. № 4; 2009. № 1-3.
- Демченко Г. В. Неясность, неполнота и недостаток уголовного закона: докл. // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 8. С. 321-352.
- Дернбург Г. Пандекты / под ред. П. Соколовского, пер. с нем. Г. фон Рехенберга. М.: Унив. тип., 1906. Т. 1: Общая часть. 481 с.
- Засемкова О. Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 412 с.
- Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. 544 с.
- Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб.: тип. В. Безобразова и Ко, 1875. 321 с.
- Иконицкая И. А. Проблемы эффективности в земельном праве. М.: Наука, 1979. 183 с.
- Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском праве. М.: Статут, 2011. 307 с.
- Кожокарь И. П. Эффективность права в категориальном аппарате теории права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 2 (48). С. 196-225. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-48-196-225.
- Коркунов H. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Юридический центр - Пресс, 2003. 430 с.
- Котляр Т. В. Проблемы развития российского страхового рынка // Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. № 6. С. 14-19.
- Крашенинников П. В. Кодификация отечественного гражданского права // Кодификация российского частного права 2019 / В. В. Витрянский, С. Ю. Головина, Б. М. Гонгало [и др.]; под ред. Д. А. Медведева. М.: Статут, 2019. 492 с.
- Лазарев В. В. Пробелы в праве. Вопросы понятия пробелов и критика теорий беспробельности права / науч. ред. А. К. Безин. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1969. 96 с.
- Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономической науки. М.: Дело, 2003. 519 с.
- Люблинский П. И. Основания судейского усмотрения в уголовных делах. СПб.: Сенат. тип., 1904. 34 с.
- Михайлов А. М. Универсальные пути правогенеза: немецкая историческая школа права и семья общего права // Российский юридический журнал. 2009. № 4. С. 47-61.
- Никитинский В. И. Эффективность норм трудового права. М.: Юрид. лит., 1971. 248 с.
- Петровский Н. А. Метод аналогии и концепции беспробельности права в юриспруденции // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 3. С. 31-36.
- Подкаминер В. Ю. Закон о страховании гражданской ответственности владельцев объектов повышенной опасности принят. Готовятся подзаконные акты // Финансы. 2011. № 5. С. 41-44.
- Попондопуло В. Ф. Модельный торговый кодекс (Закон о торговле) для государств-участников СНГ: концепция и структура // Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Б. И. Пугинского / сост. Е. А. Абросимова, С. Ю. Филиппова. М.: Статут, 2011. С. 12-27.
- Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1996. 494 с.
- Рассолова Т. М. Проблемы правового регулирования страховых отношений // Юридическая и правовая работа в страховании. 2009. № 3. С. 75-79.
- Романова М. В. Тенденции развития российского страхования и кризисная ситуация // Финансы. 2009. № 1. С. 51-54.
- Степанов С. А. О «пробелах» в праве // Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. М.: Статут, 2001. С. 328-330.
- Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. Берлин: Слово, 1923. 439 с.
- Терновая О. А. Источники правового регулирования и понятие договора. Франция // Договоры в гражданском праве зарубежных стран: моногр. / отв. ред. С. В. Соловьева. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 12-46.
- Туманов Д. А. Пробелы в гражданском процессуальном праве. М.: Норма, 2008. 208 с.
- Унковский М. А. О неясности законодательства как общественном бедствии и о ближайших путях к ее устранению. СПб.: В. Тимофеев, 1913. 23 с.
- Федосова В. А. Эффективность действия норм советского государственного права. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. 157 с.
- Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: основы. М.: Междунар. отношения, 1995. Т. 1. 480 с.
- Шаргородский М. Д. Уголовный закон. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. 311 с.
- Шафиров В. М. Презумпция относительной беспробельности права // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. (31 января - 2 февраля 2013 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. С. 48-51.
- Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М.: Бр. Башмаковы, 1910. 806 с.
- Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания. М.: Высш. шк., 1978. 271 с.
- Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: моногр. / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко Шер, Д. О. Грачев [и др.]; отв. ред. Н. Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 432 с.
- Яркое В. В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 523 с.
- Bergbohm K. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie: kritische Abhandlungen. Leipzig, 1892. 566 s.
- Savatier R. Les creux du Droit positif au rythme des metamorphoses d'une civilization // Le probleme des lacunes en droit. Bruxelles, 1968. Pp. 521-535.