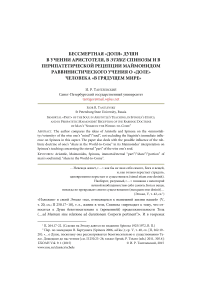Бессмертная «доля» души в учении Аристотеля, в Этике Спинозы и в перипатетической рецепции Маймонидом раввинистического учения о «Доле» человека «в Грядущем Мире»
Автор: Тантлевский Игорь Романович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Человеческое измерение времени
Статья в выпуске: 1 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
Автор сопоставляет идеи Аристотеля и Спинозы относительно «бессмертия»/«вечности» «разума»/«души» мудрого человека и не исключает прямого влияния Стагирита на Спинозу в данном аспекте. В статье также делается попытка выявить возможное влияние на учение Спинозы о «части»/«доле» разумной души, которая «вечна», раввинистической доктрины о «доле» человека «в Грядущем Мире» в ее интерпретации Маймонидом
Аристотель, маймонид, спиноза, бессмертная/вечная "доля"/"часть" разумной души, "доля в грядущем мире"
Короткий адрес: https://sciup.org/147103400
IDR: 147103400
Текст научной статьи Бессмертная «доля» души в учении Аристотеля, в Этике Спинозы и в перипатетической рецепции Маймонидом раввинистического учения о «Доле» человека «в Грядущем Мире»
. .Невежда живет,<.> как бы не зная себя самого, Бога и вещей, и, как только перестает страдать, одновременно перестает и существовать (simul etiam esse desinit).
Наоборот, разумный,<.> познавая с некоторой вечной необходимостью себя самого, Бога и вещи, никогда не прекращает своего существования (nunquam esse desinit).
(Этика, V, т. 42, сх.1)
«Изложив» в своей Этике «все, относящееся к нынешней жизни нашей» (V, т. 20, сх.; II 250.17 – 18), т. е., жизни в теле, Спиноза «переходит к тому, что относится к Душе безотносительно к (временной) продолжительности Тела (.ad Mentem sine relatione ad durationem Corporis pertinent2)». И в теоремах
21–42 пятой части Этики философ развивает учение о «части»/«доле» (pars) души (mens; также: «разум») человека, которая «вечна». Чем больше душа человека познает по второму, рациональному (ratio),3 но, главным образом, третьему (scientia intuitiva, «интуитивное знание»)4 роду познания, т. е., чем больше она любит Бога «интеллектуальной Любовью» и познает Его, себя и вещи, «тем большая доля ее остается невредимой» и вкушает «спасение» (salus) и «блаженство» (beatitudo),5 а с другой стороны, «тем менее смерть приносит вреда» личности.6 Проиллюстрируем это несколькими прямыми цитатами из Этики :
Т. 38, док.: Сущность Души состоит в познании (Mentis essentia in cognitione consistit) (по т. 11, ч. II). Итак, чем больше вещей познает Душа (Mens) по второму и третьему роду познания, тем большая часть ее остается невредимой (eo major ejus pars illaesa manet; курсив наш. — И. Т.).
Сх.: .Смерть тем менее приносит нам вреда, чем больше то ясное и отчетливое познание, которым обладает Душа, и следовательно, чем больше Душа любит Бога (mors eo minus est noxia, quo Mentis clara et distincta cognitio major est, et consequenter quo Mens magis Deum amat). Далее, так как (по т. 27) из третьего рода познания возникает самое высшее удовлетворение (acquiescentia), какое только может быть, то из этого следует, что природа человеческой Души (Mentem) может быть такова, что та (часть) ее , которая, как мы показали, погибает вместе с телом (см. т. 21), в сравнении с той, которая остается, не будет иметь никакого значения (nullius sit momenti; курсив наш. — И. Р.).7
Т. 31, сх.: .Чем сильнее каждый в этом (т. е. третьем. — И. Т.) роде познания, тем лучше он знает себя самого и Бога, т. е. тем он совершеннее и блаженнее (perfectior et beatior).8
Т. 40, кор.: .Та доля души (partem Mentem), которая сохраняется, какова бы ни была она (по объему) (quantacunque ea sit; курсив наш. — И. Т.), совершеннее оставшейся (части). Ибо вечная часть Души (pars Mentis aeterna) (по т. 23 и т. 29) есть разум (intellectus), в силу одного которого мы называемся действующими (по т. 3, ч. III); та же часть, которая, как мы показали, погибает, есть воображение (по т. 21; [а также память; см.: т. 21, док. — И. Т.]), благодаря которому мы называемся страдательными (по т. 3, ч. III, и общ. опр. аффектов).9
Возникает ощущение, что ряд приведенных выше формулировок мог возникнуть под непосредственным влиянием Никомаховой этики Аристотеля, базельское издание 1548 г. собрания сочинений которого засвидетельствовано среди книг, которыми пользовался Спиноза.10 Так, в кн. I, гл. 11, 1101а35–b9 Аристотель прямо говорит о том, что перешедшие в мир иной предки могут пребывать там, будучи как «счастливыми» ( е иda^mones') и «блаженными» ( makárioi ), так и «не счастливыми» (ср. также: 1100а29 – 30). В кн. X, гл. 7, 1177а11–1178а8 Стагирит указывает и путь, ведущий к «блаженству»: говоря об уме ( noûs ) как наивысшей части души, который «то ли сам божественен ( theîon )», то ли является «сáмой божественной (частью) ( tò theiótaton ) в нас», он утверждает, что «совершенное счастье» достигается благодаря «созерцательной / resp. умозрительной деятельности (theoretikё )». Чем интенсивнее мудрый способен заниматься умозрением, тем он становится мудрее и счастливее. Итак,
...надо насколько допускает возможность обретать бессмертие (athanatidzein) и делать всё ради жизни, соответствующей наилучшему ( tò krátiston ) в самом себе: право, если по объёму это малая (часть) ( mikrón ), то по силе и ценности она всё далеко превосходит.
Видимо, сам (человек) и будет этой (частью), если она действительно (является) главной и лучшей ( tò kúrion kaì ἄmeinon ) (частью его). А потому было бы нелепо отдавать предпочтение не жизни самого себя, а (чего-то) другого (в себе). ...Что по природе присуще каждому, то для каждого наивысшее и доставляет наивысшее удовольствие, а значит, человеку присуща жизнь, подчинённая уму, коль скоро человек и есть в первую очередь ум. Следовательно, эта жизнь самая счастливая.
В трактате О душе Аристотель допускает, что «деятельный ум» (noûs poiētikós) человека не является органической функцией, а как бы приходит извне, оказывается в известный момент развития для него чем-то непосредственно данным и, таким образом, выступает, скорее, как независимая (бесте-лесная)11 «сущность», вступающая во врéменную связь с «растительноживотной» душой, погибающей вместе с телом. Так, говоря в кн. II, гл. 1, 413a5-10 о «частях»/«долях» (mere) души (he psuchё), Аристотель замечает, что ничто не мешает, чтобы некоторые (части души) были отделимы (от тела), так как они — не энтелехия какого-либо тела.
Далее, в кн. II, гл. 2 Стагирит высказывает следующее предположение:
Относительно же ума и способности к умозрению. кажется, что они иной род души и что только эти способности могут существовать отдельно, как вечное — отдельно от преходящего» (413b25 и сл.12).13
Согласно же кн. III, гл. 5, «деятельный ум», только существуя отдельно, есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно. У нас нет воспоминаний (возможно, здесь присутствует аллюзия на преэкзистенцию «деятельного ума» человека. – И. Т.), так как этот (т.е. деятельный. – И. Т.) ум ничему не подвержен; ум же, подверженный воздействиям (т.е. noûs pathetikós. – И. Т.), преходящ и без деятельного ума ничего не может мыслить. (430а16-25).14
В приведенных выше пассажах из Этики Спинозы можно усмотреть также параллели с релевантными идеями средневековых перипатетиков, в частности, с учением Маймонида о том, что обретая познание Бога, «разум, который Бог излил на человека», достигает «своего последнего/конечного совершенства» (km ' lh ’l- ’h yr ),15 т. е. переходит в актуальное состояние. В то же время, как нам представляется, в процитированных фрагментах из сочинений Спинозы имплицитно содержится и реминисценция раввинистической16 доктрины о «доле», или «участи» ( h eleq ), человека «в Грядущем Мире (ba- ‘ olam hab-ba ' )», широко обсуждавшаяся еврейскими средневековыми мыслителями, включая Маймонида, в рамках учений о бессмертии души и эсхатологического воскресения тел. Так, в сочинении Мишне Тора (букв. «Повторение Учения/Закона»), II, 5 8:2 Маймонид дает такое религиозно-философское описание блаженной «участи» праведников и мудрецов в загробном мире:
Так сказали древние мудрецы: «В Грядущем Мире ( ‘olam hab-ba') не едят, не пьют и не размножаются, — но праведные восседают, венцы их на их головах и наслаждаются они сиянием Шехины (Божественное Присутствие. — И. Т.)» (Вавилонский Талмуд, Берахот , 17а)... Слова их о том, что «праведные восседают», являются иносказанием, которое означает, что души праведных пребывают там без бремени и без тягот (ср. Наставление для растерянных I, 11. — И. Т.). Подобно этому слова «и венцы их на головах их» означают, что разумение, которое они уразумели и благодаря которому они удостоились Грядущего Мира, пребывает с ними, и оно — их венец (подразумевается «приобретенный разум»; термин восходит к понятию noũs ho thwrathen [«ум извне (приходящий)»], разработанному Александром Афро-дисийским. — И. Т.)... Ведь сказано: «И вечная радость над их главами» (Ис. 51:11), а радость не есть нечто телесное, что можно возложить на голову; так и «венец», о котором говорят здесь мудрецы, — это разумение. А о чем сказано:
«…наслаждаются сиянием Шехины»? — о том, что они уразумевают и постигают из истинности Пресвятого, благословен Он, то, что они не разумели, будучи в темном и низменном теле.17
А в своем Наставлении для растерянных , кн. III, гл. 51 Маймонид, комментируя Ис. 58:8b, говорит о «вечной» деятельности разума пророков и праведников в «познании Бога», сопровождаемой «великим удовольствием, которое неподобно телесному наслаждению».
Итак, согласно упомянутым выше «сотериологическим» учениям всех трех философов, воздаяние мудрым не «эсхатологично» — свою «долю» в мире ином каждый получает сразу по земной кончине. Возможно, что акцент на спасительной «доле»/«мере» (большей или меньшей) бессмертной части души разумного человека в учениях Аристотеля и Спинозы имплицитно предполагает, что эта «пропорция» мыслится не окончательной, и обоими философами допускается «прогресс» в развитии разумной души в мире ином… С другой стороны, Аристотель говорит о возможности влияния — впрочем, не решающего — событий мира сего на степень «блаженства» перешедших в мир иной предков.18
Список литературы Бессмертная «доля» души в учении Аристотеля, в Этике Спинозы и в перипатетической рецепции Маймонидом раввинистического учения о «Доле» человека «в Грядущем Мире»
- Adler, J. (2014) “Mortality of the soul from Alexander of Aphrodisias to Spinoza,” in Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, ed. by S. Nadler. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 13-35.
- Garrett, D. (2010) “Spinoza on the Essence of the Human Body and the Part of the Mind That Is Eternal,” The Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics, ed. by O. Koistinen. New York, NY: Cambridge University Press: 284-302.
- Klein, J. R. (2014) “‘Something of it remains’: Spinoza and Gersonides on intellectual eternity,” in Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, ed by S. Nadler. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 177-203.
- Manzini, F. (2009) Spinoza: Une Lecture d’Aristote. Paris: Presses Universitaires de France.
- Sluis, J. van; Musschenga, T. (2009) De boeken van Spinoza. Samengesteld door J. van Sluis & T. Musschenga. Groningen; Den Haag: Savoye LET Plain/Junicode.
- Spinoza, B. (1925/1972) Opera, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, hrsg. Von Carl Gebhardt. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung. Unveränd. B. 2.
- Spinoza, B. (2006) Baruch de Spinoza: Spinoza im Kontext. Lateinisch/niederländisch-deutsche Parallelausgabe auf CD-ROM. (Reihentitel: Literatur im Kontext auf CD-ROM 12).
- Spruit, L. and Totaro, P., eds. (2011) The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica. Leiden; Boston: Brill.