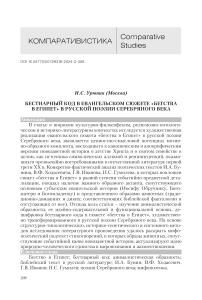Бестиарный код в евангельском сюжете "бегства в Египет" в русской поэзии Серебряного века
Автор: Урюпин И.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье в широком культурно-философском, религиозно-онтологическом и историко-литературном контекстах исследуется художественная реализация евангельского сюжета «бегства в Египет» в русской поэзии Серебряного века, выявляется ценностно-смысловой потенциал мотивно-образного комплекса, восходящего к каноническим и апокрифическим версиям новозаветной истории о детстве Христа и о святом семействе в целом, как источника символических аллюзий и реминисценций, оказавшихся чрезвычайно востребованными в отечественной литературе первой трети ХХ в. Конкретно-фактический анализ поэтических текстов И.А. Бунина, В.Ф. Ходасевича, Г.В. Иванова, Н.С. Гумилева, в которых воплощен сюжет «бегства в Египет» в разной степени событийно-предметной детализации, показал наличие важного образного актанта, сопутствующего основным субъектам евангельской истории (Иосифу Обручнику, Богоматери и Богомладенцу) и представленного образами животных (традиционно-домашних и диких; соответствующих библейской фактологии и отступающих от нее). Отсюда цель статьи - изучение анималистической образности, ее идейно-содержательной и функциональной основы, дешифровка бестиарного кода в сюжете «бегства в Египет», художественно трансформированного в русской поэзии Серебряного века. На основе структурно-типологического, историко-генетического и системного методов исследования литературного произведения удалось раскрыть мифопоэтический подтекст стихотворений, в которых образы животных, сопутствующие событийной канве новозаветной истории, актуализируют идею природно-человеческого единства в миропознании и жизнеотношении.
Бегство в египет, бестиарный код, анималистическая образность, библейский текст в русской литературе, и.а. бунин, н.с. гумилев, поэзия серебряного века, мифопоэтика, в.ф. ходасевич, г.в. иванов
Короткий адрес: https://sciup.org/149146231
IDR: 149146231 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-308
Текст научной статьи Бестиарный код в евангельском сюжете "бегства в Египет" в русской поэзии Серебряного века
Flight to Egypt; bestial code; animalistic imagery; biblical text in Russian literature; I.A. Bunin; V.F. Khodasevich; G.V. Ivanov; N.S. Gumilyov; poetry of the Silver Age; mythopoetics.
Евангельская история о Рождестве Христовом, поведанная апостолом Матфеем, называет причину, по которой святое семейство было вынуждено покинуть Вифлеем почти сразу же после явления в мир Сына Человеческого. Ангел Господень явился во сне Иосифу Обручнику и сообщил ему, что Ирод, узнавший от волхвов о «родившемся Царе Иудейском», «хочет искать Младенца, чтобы погубить Его»: «Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода» (Мф. 2: 1315). В апокрифической «Книге о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя», приписываемой Псевдо-Матфею и датируемой концом VI – серединой VII в., раскрываются отсутствующие в канонических Евангелиях подробности путешествия в Египет Богомладенца Иисуса и Его земных спутников, в числе которых, помимо Иосифа и Марии, были трое отроков и молодая девушка. Все они подверглись нападению «великого множества драконов», которых усмирил Христос, сошедший «с рук Матери Своей»: «И сказал им Иисус: “Не смотрите на меня только как на младенца. Я совершенный муж, и надлежит всем диким зверям сделаться ручными передо мной”» [Апокрифические сказания 1999, 26]. Воле Господа покорились все твари земные: «львы и леопарды» «поклонились Ему и сопровождали Его в пустыне», «вместе с быками, ослами и вьючными животными» они «не причиняли никакого зла, оставаясь кроткими среди овец и баранов, которых Иосиф и Мария взяли с собой из Иудеи» [Апокрифические сказания 1999, 27]. Так исполнилось пророчество Исайи: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей» (Ис. 65: 25). Мир и благоволение, о которых в Евангелии от Луки возвестило «многочисленное воинство небесное», возрадовавшееся пришествию Спасителя, распространилось не только на «человеков», но и на всех «тварей» земных, едиными устами славящих Бога «в вышних» (Лк. 2: 13–14).
В иконографии Рождества Христова и событий, последовавших за Рождеством, к Х–ХI вв. сложился канон, в соответствии с которым образ Богомладенца изображался в окружении животных – «вола и осла (реже коня и коровы)», которые «символизировали два народа – израильский и языческий, для спасения которых и явился Христос» [Шаматова 2016, 316]. В «художественном бестиарии», который составляют образы животных (само латинское слово «bestia» означает «зверь» [Мусселiусъ 1891, 121]), по замечанию Р.М. Акимжановой, всегда «над базовым, анималистическим уровнем» «надстраиваются иносказательные смыслы» [Аким-жанова 2012, 14]. На этот семиотический феномен, известный со времен Средневековья, обратил внимание А.Е. Махов: «Странна для нас в первую очередь сама идея, что зверь существует в мире не только как живой организм, но и как знак; что он не только передвигается, питается, охотится и т.п., но еще и “означает”» [Махов 2017, 20]. А потому, помимо буквального, объектно-физического изображения животных, в Священном Писании актуализируется субъектно-метафизический уровень восприятия и постижения природных реалий, преодолевающих свое естественно-временное бытие и обретающих ореол вечности. Таковы тетраморфные символы евангелистов и их «бестиарные» проекции: апостола Марка – на льва, апостола Луки – на тельца, апостола Иоанна – на орла. Кажущееся единственным исключение – соотнесение апостола Матфея с ангелом – на самом деле имеет ту же «анималистическую» природу (от латинского anima, animus – душа, дух: «ангелъ» – anima [Мусселиус 1891, 121]).
В сюжете бегства в Египет, как, впрочем, и в самой истории детства Иисуса Назарянина, воссоздававшейся в подробностях в «отреченных» книгах, известных на Руси с древнейших времен и оказавшихся чрезвычайно востребованными в искусстве Серебряного века с его устремленностью за горизонты догм и канонов к духовному Абсолюту, Богомладенца Христа сопровождают «меньшие братья», как, переосмыслив евангельское выражение (Мф. 25: 40), назвал С.А. Есенин животных. Кстати говоря, в стихотворении самого поэта «Исус Младенец» (1916) Пречистая Дева представлена в окружении «журавлей с синицами», которые пестуют «маленького Боженьку» [Есенин 2004, 140], воплотившегося в земном образе, в природном естестве, преображенном божественной благодатью. Органичная (и даже более того – органическая!) связь Бога и мира в стихотворении С.А. Есенина приобретает символико-аллегорический смысл: за то, что «Господь на елочке, / В аистовом гнездышке / Качался» [Есенин 2004, 143], Божья Мати благословляет Белого аиста «носить на завалинки / Синеглазых маленьких / Деток» [Есенин 2004, 144]. В религиозном сознании русского народа, переплавившем язычество и христианство в особую синкретическую веру, художественно претворившуюся в ранней лирике С.А. Есенина, неразрывно соединялось человеческое и животное бытие, в равной мере устремленное к Богу. Это очень точно выразил поэт в своих знаменитых «Каликах» (1910), в которых духовный «стих о сладчайшем Исусе» подпевают «горластые гуси», подтверждая идею нерасторжимой связи всего сущего, всей твари с Творцом: «Все единому служим мы Господу» [Есенин 1995, 37].
Потому неудивительно, что в новозаветной истории Христос, « живой Бог », освящает собой все живое – человеческий и животный мир. Он сам сказал о себе в Евангелии от Иоанна: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10: 11). Отнюдь не только метафорический / метафизический смысл имеют в Священном Писании образы животных, особенно домашних животных (овец, телиц, ослиц), которые составляли «предмет значительного богатства у евреев в древние времена» [Библейская энциклопедия 1991, 536]. В Библии, как в «энциклопедии» бытия, содержатся сведения о самых разных животных, которые «находятся под охраной небесного Отца; они, равно как и люди, подвержены суете и с надеждой ожидают откровения сынов Божиих» [Библейский словарь 2001, 142]. Мир человеческий и мир животный в Евангелиях не противопоставлены друг другу, а неразрывно связаны между собой, даже сам Христос представляется агнцем, «ведомым на заклание и безгласным пред стригущим Его», ведь «еврейским законом точно предписано, чтобы пасхальною жертвою непременно был агнец от овец или коз» [Библейская энциклопедия 1991, 22].
В духовных стихах, бытовавших в русском фольклоре, по замечанию Г.П. Федотова, «постоянно фигурирует» осел: «Нам думается, что выбор осла подсказан соображениями особого религиозного такта. Здесь художественный инстинкт певца встречается с традицией Библии, отдающей гордых коней противникам Мессии и народа Божия» [Федотов 1991, 100]. Осел же от Рождества до Входа Господня в Иерусалим сопровождает Спасителя. Православная обрядность, «оцерковившая евангельское животное» [Федотов 1991, 100], породила в народной культуре «природно-человеческий параллелизм»: едва ли не во всех важнейших эпизодах Евангелий содержится не только животная, но и растительная образность. По наблюдению Т.А. Агапкиной, сюжет бегства святого семейства в Египет оказывается одним из самых суггестивных: «В славянском фольклорном “дендрарии” почти половина деревьев принимает участие в этом событии, вне зависимости от того, как в этом контексте оцениваются их “поступки”» [Агапкина 2018, 304].
То же самое можно сказать об образах животных, которые в стихотворениях поэтов Серебряного века оказываются непосредственными актантами в художественной реализации евангельского мотива бегства в Египет. Однако само обращение к бестиарной образности в библейском сюжете о бегстве святого семейства от козней царя Ирода в неподвластную ему землю у русских поэтов начала ХХ в. было обусловлено самыми разными обстоятельствами и мировоззренческими установками, в том числе проекциями на собственную судьбу изгнанников и беженцев, особенно в период эмиграции, воспринимавшейся как спасение от Иродовой большевистской власти. Отсюда сугубо личностная, субъективная оценка как самого евангельского эпизода о пришествии в мир Христа – «нового Адама», так и сопровождающих Его пришествие тварей, изгнанных, подобно первому человеку, из рая и «озверевших» / «одичавших» в своем послерайском бытии. Помимо традиционной анималистики, в полной мере согласующейся с определенными культурно-историческими, библейско-археологическими, геотопографическими реалиями в репрезентации новозаветного эпизода из детства Христа, в творческом сознании русских поэтов рубежа ХIХ–ХХ вв. возникают порой самые неожиданные образы животных, не соответствующие фактологии евангельских событий.
Так, в стихотворении И.А. Бунина «Бегство в Египет» (1915) Божья мать, запахнув «куньей шубкой» младенца, пробирается в холодную, морозную ночь сквозь «дремучие заросли» непроходимого леса, в котором творились «дива дивьи»: «Волчьи очи зеленью дымились, / По кустам сверкали без числа. // Две седых медведицы в лугу / На дыбах боролись в ярой злобе, / Грызлись, бились и мотались обе, / Тяжело топтались на снегу» [Бунин 2006, 45]. Нарушение «исторической достоверности» в изображении евангельских событий исследователи объясняют стремлением художника осмыслить религиозно-прецедентный сюжет в контексте народного христианства, сквозь призму «русской фольклорной традиции» [Колосова 2022, 27], в соответствии с которой бегство святого семейства в Египет оказывается символическим испытанием. Богомладенец Христос, которого Иосиф и Мария уносят подальше от «Иродова трона», преодолевает грань «между “этим” и “тем” миром, между людьми и нечистой силой» [Дербенева 2016, 50], персонифицированной в образах волка и медведя. Совершенно очевидно, что «волку присуща хтоническая символика» [Гура 1997, 123], но, как утверждает А.В. Гура, «у медведя имеется много общего с волком», «их объединяют схожие демонологические представления» [Гура 1997, 175]. Хищные животные, будучи «чужими» для человека, в архетипическом мировосприятии древних народов ассоциировались со злом, в то время как домашние животные, признаваясь «своими», выступали воплощением добра. Инфернальный колорит в бунинском стихотворении предреволюционной эпохи, дышащей «ярой злобой», оказался присущ не только волкам и медведям – диким зверям, но и домашним животным, которых поэт метонимически именует «зверями с бородами и в рогах», они беспомощно «жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали» [Бунин 2006, 45]. Именно эти «мирные», «дрожащие» животные, совсем не кроткие агнцы, являются свидетелями пришествия в мир Спасителя, Его спутниками на крестном пути.
В стихотворении И.А. Бунина «На пути из Назарета» (1912) представлена иная по сравнению с «Бегством в Египет» сакрально-образная трактовка евангельского сюжета о скитании святого семейства по «каменистой долине» Самарии как прообразе поиска человеком и человечеством духовного убежища в океане мирской суеты. Не случайно лирический герой, поклоняющийся небесной красоте Святой Девы, именует ее «Звездой морей», путеводительницей, что хранит «корабли во мраке, в бурях» [Бунин 2006, 11]. Сама Мария «с ребенком на руках» восседает на «сером ослике»: «Как спокойно поднялися / Аравийские ресницы / Над глубоким теплым мраком, / Что сиял в ее очах!» [Бунин 2006, 11]. Ушастого ослика подгонял «в пыльном и заплатанном кунбазе» старик «с блестящими глазами, сизо-черен и курчав» [Бунин 2006, 10]. Поэт не называет Иосифа по имени, но детально вырисовывает его образ: «Он, босой и легконогий, / За хвостом его поджатым / Гнался с палкою, виляя / От колючек сорных трав» [Бунин 2006, 10].
В Священном Предании из века в век передаются детали бегства Иосифа, Марии и младенца Иисуса в Египет. Едва ли не во всех эпизодах этой истории возникают образы животных – как эпизодически-фоновые, так и непосредственно связанные с развитием сюжета. Так, например, «войдя в пределы Египта», замечает М.О. Крюков, святое семейство «посетило город богини-кошки Бастет, расположенный возле современного селения Загазиг», где «произошло крушение идолов» [Крюков 2018, 93], о котором сообщают апокрифы: языческая богиня-кошка оказалась повержена новозаветным Богом. И хотя в библейском тексте рассказ о бегстве в Египет практически лишен каких-либо подробностей, в христианской традиции сложился определенный визуальный канон в репрезентации этого эпизода евангельской истории. В соответствии с ним Богородица вместе с Бо-гомладенцем восседают на осле, которым управляет Иосиф Обручник.
Не случайно в стихотворении В.Ф. Ходасевича «Вечер» (1913) возникает образ «запоздалого ослика на дороге», торопливо плещущего бубенцом, который у лирического героя вызывает евангельскую ассоциацию: «На таком же ослике Мария / Покидала тесный Вифлеем» [Ходасевич 1996, 132]. В художественном сознании поэта ослик – не просто вьючное животное. Для Божиего Сына и Его Матери он – живая опора в земном странствии, часть родного стада, пастырем которого явился в мир Христос. А потому лирический герой стихотворения с недоумением вопрошает: «Что еврейке бедной до Египта, / До чужих овец, чужой земли?» [Ходасевич 1996, 132]. Бегство в Египет, в «чужую землю», – это путь в «чужое стадо», которое, между тем, не является чужим для Бога, наполняющего своим светом всю вселенную, весь мир – животный и человеческий. Отсюда образ звезды, что вдали над пальмой «указывает путь» беглецам, устремленным к «новой земле»: «Топотали частые копыта, / Отставал
Иосиф, весь в пыли», «Плачет мать. Дитя под черной тальмой / Сонными губами ищет грудь» [Ходасевич 1996, 132]. Иосиф и Мария в стихотворении В.Ф. Ходасевича – всего лишь спутники младенца Иисуса, пришедшего в мир, чтобы наполнить его божественным светом, чтобы преобразить само человечество.
Испытания, которые Господь послал своему семейству, – это прообраз скорбного и вместе с тем радостного пути возвращения всех людей в потерянный рай. К такому пониманию глубинного, нравственно-философского смысла библейской истории пришел Г.В. Иванов, который, по утверждению О. Сурат, «буквально шел по стопам Ходасевича», повторял «его ходы, сходством лирического сюжета оттеняя различия» [Сурат]. Его стихотворение «Наконец-то повеяла мне золотая свобода…» (1920), представляющее собой евангельский эпизод, когда «пробиралась с младенцем в Египет Мария», рисует «пустынный сад», напоенный «воздухом, полным осеннего солнца, и ветра, и меда» [Иванов 1993, 221]. В сознании лирического героя символами этого поистине райского сада, оживленного звуками «колокольчиков мимо идущего стада», навсегда останутся «смуглый детский румянец, и ослик, и кисть винограда» [Иванов 1993, 221]. В романтической картине, созданной художником, нет места нарочитому официозу, а есть подлинная евангельская простота, выражающаяся через образы сельской идиллии, которую невозможно представить без домашних животных. А потому, отбросив «павлиньи уборы» [Иванов 1993, 221], всю внешнюю красоту видимого мира, «глаза прикрывая ладонью», любовался Иосиф на Матерь с Младенцем, от которых исходил свет, оживотворявший собой души всех сущих на земле живых существ – людей и зверей.
Отсутствие «четкой грани между животными и человеком» [Шаря-фетдинов 2021, 56], характерное для анимистических культур всего азиатско-африканского ареала, на котором сформировались едва ли не все древнейшие цивилизации, актуализировал Н.С. Гумилев в поэтической книге «Шатер» (1921). Во «Вступлении» (1918) к ней лирический герой, «открывая Евангелье, повесть жизни ужасной и чудной», обращается к «оглушенной ревом и топотом, облеченной в пламень и дымы» Африке как колыбели человечества, вспоминает «древо древней Евразии», хранящей «деянья свои и фантазии», проникает в самую глубину архаического сознания, обращаясь к читателю-собеседнику со словами откровения: «Про звериную душу послушай» [Гумилев 1999, 353]. «Звериная душа» в стихотворении Н.С. Гумилева – это первобытный исток, ментально-психологическая прародина человечества, вышедшего из состояния дикости и еще не утратившего остроту восприятия природно-оргиастической стихии жизни, которой бросают вызов «вожди в леопардовых шкурах», что «водят полчища воинов хмурых» [Гумилев 1999, 353]. «Торная» дорога цивилизации в понимании художника – это символический путь «в Египет», в обетованные «селенья святые», в которых под сикоморою «с Христом отдыхала Мария» [Гумилев 1999, 354]. В гумилевском «Вступлении» как увертюре к «африканским странствиям» поэта образ святого семейства дается на причудливом бестиарном фоне: среди «кумиров древних» изображаются
«львы, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра» [Гумилев 1999, 354]. «Там, где нету пути человеку» [Гумилев 1999, 354], есть звериные тропы, по которым животные в актуализированном поэтами Серебряного века апокрифическом мифе о детстве Христа избавляют от опасностей пришедшего в мир Богомладенца и Его Пречистую Матерь, чтобы исполнилось предустановленное свыше явление божественной Истины.
Так, сюжет бегства в Египет в русской поэзии первой трети ХХ в. становится метасюжетом духовного скитания-испытания, которое посылается человеку для его спасения. Но человек не одинок в этом мире, в помощь ему сотворены и другие живые существа: Бог даровал «душу живую» «всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду], пресмыкающемуся по земле» (Быт. 1: 30). А потому не случайно животные оказываются вечными спутниками человека, как спутниками Христа, «доброго пастыря», на Его крестном пути, согласно Евангелиям, были «живые души» «словесного» и «бессловесного» стада. В художественной интерпретации Священного Писания русскими поэтами Серебряного века животное и человеческое начала в мироздании, нераздельные и нес-лиянные друг с другом, образуют единое таинство Жизни как величайшей ценности и Божиего дара.
Список литературы Бестиарный код в евангельском сюжете "бегства в Египет" в русской поэзии Серебряного века
- Агапкина Т.А. Бегство святого семейства в Египет в славянских этиологических легендах о деревьях // БШ^а Циегагаш. 2018. Т. 3. № 1. С. 302-317.
- Акимжанова Р.М. «Художественный бестиарий» в системе феноменологического подхода к изучению художественного мира литературных произведений // Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики: материалы V Международной научно-практической конференции. Челябинск: Цицеро, 2012. С. 12-15.
- Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых. М.: Когелет, 1999. 176 с.
- Библейская энциклопедия / репринтное издание. Труд архимандрита Ни-кифора. М.: ТЕРРА, 1991. 903 с.
- Библейский словарь / сост. Э. Нюстрем. СПб.: Библия для всех, 2001. 522 с.
- Бунин И.А. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 2. Стихотворения (19121952); Повести, рассказы (1902-1910). М.: Воскресенье, 2006. 592 с.
- Гумилев Н.С. Лирика. Минск: Харвест, 1999. 480 с.
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Ин-дрик, 1997. 912 с.
- Дербенева Л.В. Волк в бестиарном культурном коде: спаситель, погубитель и культурный герой // Восточнославянская филология: сборник научных трудов. Вып. 3 (27). Литературоведение. Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2016. С. 48-57.
- Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Наука - Голос, 1995. 672 с.
- Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. Стихотворения, не вошедшие в «Собрание стихотворений». М.: ИМЛИ РАН, 2004. 544 с.
- Иванов Г.В. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Согласие, 1993. 656 с.
- Колосова С.Н. Библейские и фольклорные мотивы в творчестве И.А. Бунина (на примере стихотворения «Бегство в Египет») // Бунинские чтения: материалы Международной научной конференции 20-21 октября 2022 г. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. С. 26-31.
- Крюков М.О. Бегство святого семейства в Египет: церковная традиция и историческая основа // Христианство на Ближнем Востоке. 2018. № 2. С. 90-101.
- Махов А.Е. Бестиарий как подсистема средневековой семиотики // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2017. № 9 (30). С. 20-36.
- Мусселиус В. Русско-латинский словарь. СПб.: Издаше К.Л. Риккера, 1891. 443 с.
- Сурат О. Бегство в Египет. Отрывок из проекта «Три века русской поэзии» // Россия и христианский Восток. История - наука - культура. URL: https:// ros-vos.net/christian-culture/lit_prav/bibl/1/ (дата обращения: 14.04.2024).
- Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс; Гнозис, 1991. 192 с.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. Стихотворения. Литературная критика 1906-1922. М.: Согласие, 1996. 592 с.
- Шаматова Ю.Ю. Иконография Рождества Христова: эволюция композиции // Карповские чтения: сборник статей. Вып. 6. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. С. 315-319.
- Шаряфетдинов Р.Х. Мифопоэтика татарской литературы: монография. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 168 с.