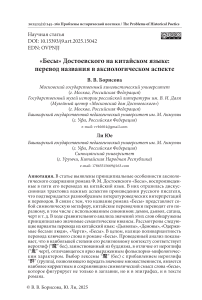«Бесы» Достоевского на китайском языке: перевод названия в аксиологическом аспекте
Автор: Борисова В.В., Ли Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлены принципиальные особенности аксиологического содержания романа Ф. М. Достоевского «Бесы», воспроизведенные в пяти его переводах на китайский язык. В них отразилась дискуссионная трактовка важных аспектов произведения русского писателя, что подтверждается разнообразием литературоведческих интерпретаций и переводов. В связи с тем, что название романа «Бесы» представляет собой символическую метафору, китайские переводчики переводят его по-разному, в том числе с использованием синонимов: демон, дьявол, сатана, черт и т. д. В ходе сравнительного анализа значений этих слов обнаружены принципиально значимые семантические нюансы. Рассмотрены следующие варианты перевода на китайский язык: «Дьяволы», «Демоны», «Одержимые бесами люди», «Черти», «Бесы». В целом, налицо поливариантность перевода ключевого слова в романе «Бесы». Проведенный анализ показывает, что в наибольшей степени его религиозному контексту соответствует иероглиф (“魔” бес), заимствованный из буддизма, в отличие от иероглифа (“鬼” черт), отличающегося ярко выраженным фольклорно-мифологическим характером. Выбор лексемы “魔” (бес) с прибавлением иероглифа “群” (группа), позволяющего передать значение множественности, является наиболее корректным и сохраняющим символический смысл слова «бесы», которое фигурирует не только в заглавии, но и в эпиграфах, и в тексте романа.
Достоевский, Бесы, аксиология, название, роман, перевод, китайский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147248215
IDR: 147248215 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15042
Текст научной статьи «Бесы» Достоевского на китайском языке: перевод названия в аксиологическом аспекте
«Бум Достоевского» в современном Китае несомненен (см. об этом, напр.: [Захаров, 2023: 167]). Все большее внимание не только российских, но и китайских ученых привлекает самое политическое и самое религиозное произведение Достоевского «Бесы», что подтверждается выступлениями коллег из Китая в 2023 г. на XVIII Симпозиуме Международного общества Ф. М. Достоевского, посвященном 150-летию романа «Бесы» (см. об этом: [Борисова]). Среди участников Симпозиума были переводчики, отмечавшие, что наибольшую трудность у них вызывает перевод его заглавия. Решение этой проблемы связано с выявлением важного аксиологического смысла произведения, который, как справедливо считает А. П. Власкин, изначально заложен именно в названии [Власкин: 400–401].
Одним из первых в современном китайском достоевскове-дении на проблему адекватного перевода и толкования названия романа «Бесы» обратил внимание молодой исследователь Ми Сюйян [Ми Сюйян]. Он задал вопрос: «Кто такие "Бесы" в заголовке романа?» — и отметил, что в мировой переводческой практике существуют разные варианты названия произведения русского писателя. В английском переводе это, например: “The Possessed” («Бесноватые»), “The Devils” («Дьяволы») и “The Demons” («Демоны») (см. об этом: [Leatherbarrow]).
Не меньшей вариативностью отличаются китайские переводы. Изучение их истории и анализ иноязычных вариантов заглавия романа «Бесы» в сравнении с оригиналом будет способствовать решению актуального вопроса: как передать ценностный смысл ключевой лексемы произведения Достоевского в переводе?
Важно отметить, что русское слово «бесы» не имеет полного аналога в китайском языке из-за языковой и концептуальной асимметрии двух культур, обусловленной также и различием их религиозных и культурных контекстов. По этой причине название романа Достоевского и его смысл передаются переводчиками по-разному, в том числе с использованием синонимических вариантов слова «бес»: демон, дьявол, сатана, черт, злой дух . Они близки по смыслу и в некоторых случаях взаимозаменяемы. Однако в ходе анализа их значений обнаруживаются принципиально значимые семантические нюансы, объясняющие авторский выбор именно слова «бесы» из ряда других его синонимов: «Бѣсы существуютъ несомнѣнно, но пониманiе о нихъ можетъ быть весьма различное» [Достоевский, 2010: 715].
Достоевский безусловно различал две традиции демонологии — европейскую романтическую и народную христианскую. Соответственно, эти традиции предполагают дифференцированное словоупотребление, на что обратил внимание Ми Сюйян: «…Демон в одноименной поэме Лермонтова и бесы в одноименном стихотворении Пушкина — это совсем разные существа, а за ними еще и два древних слова, одно исконное, а другое заимствованное» [Ми Сюйян: 423]. Автор романа «Бесы» для названия выбрал многозначное русское слово.
Так, составители словаря языка Достоевского отмечают, что слово «бесы» в произведениях писателя обладает двумя значениями: «1. Нечистая сила, злая, враждебная человеку; черти»1; «2. Темная, страстная сторона человеческой натуры; одержимость каким-либо грехом»2.
Оба эти значения реализуются в Евангелии. Объясняя идеологический смысл своего обращения к нему, Достоевский писал А. Н. Майкову 9 (21) октября 1870 г.:
«Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского» [Достоевский, 1986; т. 29, кн. 1: 145]3.
Авторскую мысль повторяет Степан Верховенский в конце романа:
«…это точь-въ-точь какъ наша Россiя. Эти бѣсы, выходящiе изъ больнаго и входящiе въ свиней <…>, накопившiеся въ вели-комъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россiи, за вѣка, за вѣка! <…> Это мы <…> мы бросимся, безумные и взбѣсив-шiеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной ис-цѣлится и "сядетъ у ногъ Iисусовыхъ"…» [Достоевский, 2010: 651].
Составители «Терминологического словаря-тезауруса "евангельского текста" Ф. М. Достоевского» в этой связи подчеркивают, что такое «употребление слов "бес", "бесы" <…> в целом соответствует евангельской традиции»4. По словам В. Н. Захарова, слово «бесы» в произведении писателя реализуется как «символическая метафора» [Захаров, 2012: 656], указывающая на присутствие «бесов» в людях:
«Но, видно, тогда-то и овладѣвалъ Варварой Петровной бѣсъ самой заносчивой гордости…» [Достоевский, 2010: 651].
Наряду с главной лексемой «бесы», в романе Достоевского необходимо учитывать ее связи с другими синонимами. Как справедливо высказался О. И. Сыромятников в отношении этого концепта, «богословие рассматривает его дифференцированно» [Сыромятников: 122]. Согласно Священному Писанию, Богу-Творцу противостоит сатана (дьявол) (Иов. 1:6–12). Духи, которых ему удалось увлечь за собой, носят имена «демонов», «чертей», «бесов» и т. д. Демон — «злой дух, возбуждающий страсти, склоняющий человека к дурным поступкам, к греховной жизни; бес-искуситель»5. Это понимает Даша Шатова, говоря Николаю Ставрогину:
«Да сохранитъ васъ Богъ отъ вашего демона…».
Но тот отвечает:
«О, какой это демонъ! Это просто маленькiй, гаденькiй, золотушный бѣсенокъ съ насморкомъ, изъ неудавшихся» [Достоевский, 2010: 282].
Здесь подчеркивается подчиненное, низшее место беса по отношению к демону. Так, слугой демонического Ставрогина выступает «мелкий бес» Петр Верховенский.
В романе «Братья Карамазовы» черт, представ перед Иваном в обличии лакея и приживальщика, говорит ему:
«Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, "гремя и блистая", с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде» [Достоевский, 1976; т. 15: 81].
И герой вынужден согласиться:
«…он не сатана <…>. Он просто черт, дрянной, мелкий черт» [Достоевский, 1976; т. 15: 86].
В контексте народной веры Достоевский также использовал лексические варианты «злой дух» [Достоевский, 1980; т. 21: 201; 1988; т. 30, кн. 1: 192], «нечистый дух» [Достоевский, 1976; т. 14: 39, 44; т. 22: 33].
В связи с многозначностью названия романа Достоевского, его развернутой синонимией и семантической иерархией, китайские переводчики по-разному его переводят. Они решают в том числе проблему точной передачи единственного и множественного чисел, поскольку в китайском языке они не различаютс я.
Писатель Мао Дунь в 1922 г. в статье «Идеи Достоевского» [Мао Дунь: 489]6, впервые упомянув роман «Бесы», перевел его название как “ 魔鬼 ”, что дословно означает как одного беса, так и множество бесов, или «злые силы»7.
В 1927 г. в книге «Русская литература» Цюй Цюбо и Цзян Гу-анцзи, кратко изложив сюжет произведения, также перевели название романа аналогичным образом: “ 魔鬼 ” [Цзян Гуанц-зы, Цюй Цюбо: 210]. Иероглиф “ 魔 ” — это сокращенная часть заимствованного буддийского термина «мара»: «злой дьявол в религиозных или мифологических легендах, вредящий человечеству и вводящий в заблуждение»8. Слово “ 魔鬼 ” как производное от иероглифа “ 魔 ” сохраняет это религиозное значение: «обольщающий дух; воплощение зла».
Первый полный перевод романа «Бесы» на китайский язык выполнил в 1979 г. Мэн Сянсэнь, дав название “ 附魔者 ” («Одержимые бесами люди»). Этот перевод был издан в Тайване и мало известен в континентальном Китае. Он сделан с опосредованных английских переводов Дэвида Магаршака (David Magarshack) 1954 г. и Констант Гарнет (Constant Garnet) 1916 г. В них даны два варианта названия романа «Бесы» (“The Possessed”, or “The Devils”). Мэн Сянсэнь использовал первый вариант перевода (“The Possessed”). Однако иероглифы “ 附魔者 ” обозначают и людей, в которых укоренилась злая сила, отличающая многих героев романа «Бесы», о чем пишут и российские исследователи: «…метафора бесов <…> передает черты безусловного зла, присущие внутреннему миру ряда персонажей» [Головнева, Новикова: 94].
В предисловии переводчик указал, что роман «Бесы» связан с большим замыслом Достоевского «Житие великого грешника», отметив, что «загадочный главный герой Ставрогин доминирует во всем романе» [Мэн Сянсэнь: 12], не упомянув при этом Петра Верховенского. В результате в таком переводческом эквиваленте названия романа внимание акцентируется только на одном «бесе», хотя в самом произведении изображаются именно «бесы». Это резонно подчеркивают Н. О. Булгакова и О. В. Седельникова: главная лексема «в романе "Бесы" получает всестороннее переосмысление, обрастает новыми признаками, обусловленными авторским взглядом на причины кризиса, охватившего все слои российского общества» [Булгакова, Седельникова, 2018: 127] (cм. также: [Булгакова, Седель-никова, 2021, 2023]).
Второй перевод романа «Бесы» на китайский язык, выполненный Наньцзяном, вышел в 1983 г. и cохранил прямое название «Бесы» (“ 群魔 ”). В соответствии со словарными значениями главной лексемы произведения русского писателя переводчик стремился адекватно передать религиозный и нравственнопсихологический смысл названия с учетом того, что «в авторской иерархии формирующих его признаков актуализируется смысловая группа болезнь , приобретающая в романе социальный характер» [Булгакова, Седельникова, 2018: 127]. В заглавии “ 群魔 ” иероглиф “ 魔 ” означает «Бес», а “ 群 ” — «группу», то есть Наньцзян целенаправленно подчеркнул множественное число в полном соответствии с символическим смыслом названия романа Достоевского, в котором «бесы» (“ 群魔 ”) представляют собой определенный социально-политический тип людей (cм.: [Наньцзян: 900]). Не случайно именно эта версия получила наибольшее распространение в Китае, во многом перекликаясь с фразеологизмом “ 群魔乱舞 ”, относящимся к «бесчинствующей группе негодяев»9.
Аналогичным образом перевел название и эпиграф романа из Евангелия от Луки Цзан Чжунлунь (2002): «…эти “ 群魔 ” (бесы), вышедшие из больного, вошли в свиней…» [Цзан Чжунлунь: 9].
Другой переводчик, Лоу Цзылян (2001), вместо слова «Бес» / «Бесы» использовал лексему “鬼” («Черт» / «Черти»). Это существительное имеет два значения: «1. Душа умершего, о которой говорят некоторые верующие или суеверные люди; 2. Презрительное или исполненное ненависти обращение к человеку»10. Второе значение иероглифа “鬼” почти соответствует слову «бес» с аналогичной негативной семантикой. Как и иероглиф “魔” («бес»), иероглиф “鬼” («черт»), помимо обозначения инфернального существа, имеет метафорический смысл. Например, выражение “鬼迷心窍” означает «быть околдованным и потерять рассудок»11. Но, в отличие от иероглифа “魔” («бес») иероглиф “鬼” («черт») больше коррелирует со словами «привидение» или «призрак». Сам Лоу Цзылян считает перевод названия “鬼” («Черт» / «Черти») более точным, чем “魔” («Бес» / «Бесы»). Переводы названий “群魔” («Бесы») и “中邪者” («Одержимые бесами люди») Лоу Цзылян оценивает как неправильные. По его мнению, иероглиф “鬼” («Черт» / «Черти») ярче отражает политическую и религиозную точку зрения писателя, к тому же он используется в китайском переводе Евангелия от Луки [Лоу Цзылян: 713].
Однако следует отметить, что «бес» (“ 魔 ”), стремящийся разрушить нравственный порядок, обладает более активной злой силой по сравнению с «чертом» (“ 鬼 ”). Последний иероглиф обозначает в китайском языке души покойников или духов, используясь преимущественно в мифологическом контексте. Разница в семантике этих синонимов (“ 魔 ” и “ 鬼 ”) принципиально важна.
Фэн Чжаоюй, осуществив в 2010 г. пятый перевод романа Достоевского под названием “ 群魔 ” («Бесы»), посчитал иероглифы “ 魔 ” («бес») и “ 鬼 ” («черт») в целом взаимозаменяемыми [Фэн Чжаоюй: 880]. Хотя, на наш взгляд, в слове «черт» (“ 鬼 ”) религиозная коннотация, по сравнению со словом «бес», выражена менее отчетливо. Поэтому выбор лексемы “ 魔 ” («бес») для перевода представляется более корректным.
Отметим, что концепт «бесы» фигурирует не только в заглавии романа, но и многократно используется в его тексте, играя важную роль в развертывании сюжета. Рассмотрим некоторые примеры из главы «У Тихона». Исключая перевод Наньцзяна, в котором эта глава отсутствует, Лоу Цзылян, например, перевел ключевое слово во фразе «я в беса верую» как “鬼” (букв.: «я в черта верую»). В остальных переводах представлен вариант “魔鬼” («бесы»).
Аналогичные особенности отражаются при переводе лексемы «бес» / «черт» в цитате из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы», использованной в эпиграфе. Лоу Цзылян перевел слово «бес» в пушкинском стихотворении как “ 鬼 ” («черт»). Остальные переводчики Наньцзян, Цзан Чжунлунь и Фэн Чжаоюй перевели его как “ 魔鬼 ” («бес»). Они не учли лексико-семантические варианты, зафиксированные в «Словаре языка Пушкина», в котором отмечено, что слово «бес» имеет два значения: «1. Злой дух, дьявол (по библейским представлениям); 2. Черт, "нечистая сила" в образе человека с рогами и копытами (по народной мифологии)»12. При всей полисемантич-ности пушкинского словоупотребления второе значение, на наш взгляд, больше соответствует народно-поэтической традиции, реализованной в стихотворении поэта. Поэтому на китайский язык слово «бес» в данном случае лучше перевести как “ 鬼 ” («черт»).
Слово «бесы» в Евангелии от Луки другие переводчики Лоу Цзылян, Цзан Чжунлунь, Фэн Чжаоюй и Мэн Сянсэнь перевели как “ 鬼 ” («черт» / «черти»), без уточнения множественности. Лишь Наньцзян в своем переводе (“ 群鬼 ” группа чертей) передал множественное число, которое играет большую роль в названии, евангельском эпиграфе и тексте романа Достоевского. Действительно, «бесов много, <…> на это указывает вопросительное местоименное "сколько" (их — бесов), множественное число глагола "поют" в пушкинском стихотворении и лично-указательное местоимение "они" (бесы) как в строках Пушкина, так и в эпиграфе из Евангелия» [Азаренко: 16].
Таким образом, даже в одном издании романа переводчики по-разному переводят ключевую лексему «бесы» в заглавии, эпиграфах и тексте, используя синонимы. Подобное разнообразие переводческих вариантов лексемы «бесы» свидетельствует о различных контекстах ее словоупотребления, что неизбежно усложняет поиск точных аналогов в китайском языке.
Проведенный анализ пяти китайских переводов романа «Бесы» показывает, что наиболее распространенным является заглавие “ 群魔 ” («Бесы»), которое использовано в 12 изданиях произведения Достоевского, а вариант “ 附魔者 ” («Одержимые бесами люди») по сей день мало известен в континентальном Китае. Название романа “ 鬼 ” («Черти»), предложенное Лоу Цзыляном, не принято большинством китайских ученых. По нашему мнению, Лоу Цзылян пренебрег религиозными смыслами иероглифов “ 魔 ” и “ 鬼 ”, игнорируя культурный контекст, понятный китайским читателям. Неслучайно вариант “ 鬼 ” («Черти») по сравнению с вариантом “ 群魔 ” («Бесы») менее популярен.
В целом, налицо поливариантность перевода ключевого слова романа «Бесы». Тем не менее в наибольшей степени религиозному контексту романа Достоевского соответствует китайский иероглиф “ 魔 ” («бес»), заимствованный из буддизма, в отличие от иероглифа “ 鬼 ” («черт»), отличающегося ярко выраженным фольклорно-мифологическим характером. Поэтому вариант “ 群魔 ” («группа бесов»), признается китайскими исследователями как наиболее авторитетный. Именно он фигурирует в большинстве современных научных монографий и статей.
Рассмотренная нами история переводов заглавия романа «Бесы» на китайский язык отражает дискуссионное отношение к трактовке важных аспектов его содержания. Это подтверждается разнообразием литературоведческих интерпретаций и значимостью для китайской культуры и науки решения проблемы, как адекватно перевести произведение русской классической литературы на родной язык.