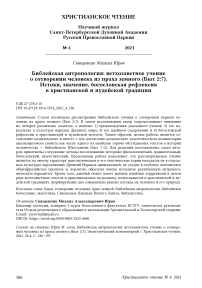Библейская антропология: ветхозаветное учение о сотворении человека из праха земного (Быт 2:7). Истоки, значение, богословская рефлексия в христианской и иудейской традиции
Автор: Юров Михаил Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библеистика
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению библейского учения о сотворении первого человека из праха земного (Быт 2:7). В своем исследовании автор сосредотачивает внимание на четырех различных аспектах, а именно: 1) происхождении указанного учения; 2) его параллелях в культурах народов Древнего мира; 3) его идейном содержании и 4) богословской рефлексии в христианской и иудейской экзегезе. Таким образом, целью работы является составление комплексного и вместе с тем достаточно компактного экзегетического комментария анализируемого сюжета как части одного из наиболее горячо обсуждаемых текстов в истории человечества - библейского Шестоднева (Быт 1-2). Для решения поставленных задач автором применены следующие методы исследования: историко-филологический, сравнительный, богословский, экзегетический. Проделанная работа показывает, что рассматриваемое учение является по своему характеру архетипическим и его генетические корни находятся не в отдельных культурах окружающих Древний Израиль цивилизаций, но уходят в глубокое досемитское общеафразийское прошлое и, вероятно, образуют некую исходную религиозную антропогоническую парадигму. Кроме того, данный сюжет имеет важные идейные корреляции в целом ряде ветхозаветных текстов и принципиально по-разному осмысливается в христианской и иудейской традициях, формирующих два совершенно разных взгляда на человека и его природу.
Адам, сотворение человека, прах земной, библейская антропология, библейское богословие, экзегетика, священное писание ветхого завета, библеистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140290122
IDR: 140290122 | УДК: 27-278:2-18 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_186
Текст научной статьи Библейская антропология: ветхозаветное учение о сотворении человека из праха земного (Быт 2:7). Истоки, значение, богословская рефлексия в христианской и иудейской традиции
Вступление
Библейское повествование о сотворении человека, встречающееся во второй главе книги Бытия, содержит весьма примечательную и характерную деталь — в нем утверждается происхождение Адама из праха земного: וַיִּי ֶצר יְהוָה אֱ ֹל ִהים ֶאת ָהָאָדם ָע ָפר ִמן ЛОТ£Л («И создал Господь Бог человека из праха земного»; Быт 2:7). Эта идея представляет собой не просто единичный проходной эпизод, теряющийся в плотном потоке смыслов текста Шестоднева (Быт 1–2), но отражает определенные антропологические воззрения и образ миросозерцания Древнего Израиля, находя свое развитие в целом ряде других ветхозаветных фрагментов и богословское истолкование в христианской и иудейской традиции. При этом сама по себе данная история не является уникальной отличительной особенностью библейской парадигмы, но, напротив, довольно хорошо вписывается в общий контекст культуры Древнего Ближнего Востока, имея также множественные параллели в верованиях и мифологиях народов по всему миру (Центральная Америка, Африка, Передняя и Юго-Восточная Азия, Восточная Сибирь, Австралия и Океания). Этот факт, однако, вовсе не свидетельствует о тривиальности или несамостоятельности ветхозаветного повествования, как может показаться при рассмотрении отдельно взятых пассажей. Внимательное и тщательное обращение к священному тексту, не говоря уже о его целостном восприятии, позволяет убедиться в творческой силе и самобытности библейских сюжетов.
В данной статье автором будет предпринята попытка разнопланового осмысления означенного учения. В ходе выполнения этой задачи читателю будет предложен филологический анализ др.-евр. понятий ’ adam (человек), ’ adamah (земля, почва), ‘apar (прах, персть), краткий обзор ряда древних ближневосточных параллелей исследуемого сюжета, а также разбор его идейных корреляций на страницах ветхозаветных книг. Небезынтересным представляется обращение к богословской рефлексии указанной идеи в христианской и иудейской экзегезе, выводящей из исследуемого текста различные антропологические модели.
-
I. Общие древние истоки сюжета
Древнееврейское слово niS (’ adam ) — человек, Адам1, в самом себе содержит указание на определенные антропологические представления, характерные не только для ветхозаветного Израиля, но и для ближневосточного миросозерцания в целом. Вполне очевидна его связь с другими лексемами библейского иврита, а именно: 1) сущ. ЛОТК (’ adamah ) — земля, почва2; 2) прил. nils (’ adom ) — красный, коричневатый3. Все они образованы при помощи трехконсонантного корня niS (‘dm ) со значением «быть красным, иметь красный цвет» [Графов, 2019, 27]. Он, в свою очередь, может быть дериватом двухсогласного корня ni ( dm ) с исходным значением «кровь» [Klein, 1987, 7]. Предлагаются, впрочем, и другие, как кажется, лингвистически менее обоснованные и убедительные версии этимологии [Maass, 1997, 78–79]. Впрочем, некоторые авторы говорят о том, что связь между существительными niS (’ adam ) и ЛniS (’ adamah ) имеет не этимологический, а стилистический характер и строится на типичном
для библейской письменности приеме парономазии (игре близких по звучанию слов — паронимов) [Wenham, 1987, 129–130].
Эти языковые наблюдения прямым образом коррелируют с хорошо известным повествованием книги Бытия, согласно которому человек был создан Богом из «праха земного» Яй78у| й 1ВУ (‘apar min - ha’adamah) (Быт 2:7; ср. Сир 33:10). Здесь исследователи обращают внимание на то, что существительное ăḏа̄mа̄h первоначально означало не любую почву или землю, а именно красную [Тантлевский, 2000, 101; Plöger, 1997, 88]4. В пользу этого, помимо уже приведенных данных, свидетельствует и лексика некоторых родственных семитских языков, например аккадского ( adamu — кровь; adamatu — темно-красная земля) [Hamilton, 2012, 263]. Предпринимаются попытки проследить общеафразийские истоки этой связи. Вслед за крупным востоковедом И. М. Дьяконовым современный отечественный библеист и гебраист И. Р. Тантлев-ский указывает на то, что египетское существительное lnm (красная кожа5), связанное с тем же семитским корнем ( ’dm ), вызывает ассоциации с кирпично-красным цветом тел людей6 в протоафразийской наскальной живописи Сахары и Древнего Египта. Отмечается также, что почвы красного и красноватого цвета гораздо более характерны для африканского континента (вероятной прародины афразийцев), чем для Западной Азии7. Из всего этого И. М. Дьяконов делает вывод о том, что история о сотворении человека из красной земли, глины восходит к досемитским общеафразийским временам [Дьяконов, 1992, 52].
В ближневосточных мифологиях она имеет различные изводы. В одном из вариантов древнеегипетского мифа человек был сотворен богом Хнумом из глины на гончарном круге. Интересно, что в библейском тексте Быт 2:7 применительно к созданию человека употребляется др.-евр. глагол IS' ( yasar ), который среди прочего используется и как технический термин для обозначения деятельности горшечника [Тантлев-ский, 2000, 101]; (Пятикнижие и Гафтарот, 1996, 16). Этот образ для Библии является классическим и неоднократно используется при характеристике отношений Бога и человека как Творца и Его творения, где подчеркивается абсолютная власть и могущество Первого (Ис 45:9; 64:8; Иер 18:6; Сир 33:13; ср. Рим 9:20-21) 8 .
Древние шумеры верили, что первые люди были созданы из комьев сырой глины богом мудрости Энки (Эа) и его супругой богиней Нинмах (Ки). В более поздних месопотамских сказаниях утверждалось, что человечество образуется из глины, замешенной на божественной крови. Согласно аккадской литургической поэме «Энума Элиш», это была кровь бога Кингу, чудовищного детища праматери Тиамат , а в изложении вавилонского жреца Бероса (III в. до Р. Х.) — божества по имени Бэл (Бел)9.
Впрочем, означенная параллель выходит далеко за пределы ближневосточных цивилизаций и встречается в культурах народов практически по всему миру. Ограничимся здесь их кратким перечислением. Итак, в греческой мифологии первые люди были вылеплены из глины титаном Прометеем в долине, расположенной к югу от Панопейского холма. У ирокезов (североамериканское индейское племя) человек был сотворен божеством Иоскехой из глины по собственному его отражению в воде. В эпосе мезоамериканской культуры «Пополь-Вух» человек выходит из рук Великого отца и Великой матери, сделавших его из все того же материала. В преданиях индейцев кауилла мы встречаем историю о том, как демиург Мукат вынул из своего сердца черную землю и слепил тела людей. У алтайцев первые семь человек были созданы Ульгенем на этот раз из глины (тело) и камыша (кости). У африканского племени догонов божество Амма делает первую человеческую пару также из сырой глины. В иранской мифологии праотец всех индоарийских народов Гайомарт был сотворен Ахурамаздой из земли на берегу реки Дайтья. В фольклоре австралийских туземцев встречается версия, согласно которой первые люди были созданы божеством Бунджилом из древесной коры и красной глины. Аборигены Новой Зеландии верят в то, что бог Ту вылепил их из добытой на дне реки красной глины, замесив ее на собственной крови. На Таити и других островах Полинезии также встречаются очень похожие предания. По китайским легендам, первым человеком на земле была женщина, но и она была вылеплена из глины руками богини Нюйва, смотревшей в процессе работы на собственное отражение в воде.
В некоторых культурах мы находим любопытное указание на выбор материала для сотворения человека, сделанный в пользу земли по причине непригодности некоторых других веществ. Например, малайзийский народ даяков доносит до нас свое предание, согласно которому первый человек по имени Танна-Кумпок («сформированная земля») создается чудесными птицами сначала из древесины, затем из камня и в конце концов из сырой земли, т. к. предыдущие попытки не увенчались успехом. В другом варианте того же мифа первочеловек обязан своим появлением богу Са-лампандаи, образовавшему его из глины после двух неудач (изготовления из камня и железа), когда произведение оказывалось немым.
Приведенного хотя и далеко не полного10 перечня параллелей интересующей нас антропогонической мифологемы11 вполне достаточно, чтобы показать, что рассматриваемый сюжет (Быт 2:7) по своему характеру является подлинно архетипическим. При этом столь широкая география его распространения свидетельствует скорее не о банальном его заимствовании12 авторами Пятикнижия из культур окружающих Израиль народов и даже не о взаимном проникновении идей, но о том, что перед нами, по всей видимости, какая-то исходная13 (религиозная) модель происхождения человека, которая по мере развития человечества и дифференциации отдельных цивилизаций видоизменялась от региона к региону и от народа к народу, не утрачивая своего смыслового ядра.
Здесь же подчеркнем, что на страницах Еврейской Библии происходит ее весьма заметная демифологизация [Cassuto, 2005, 82–83]. В тексте Быт 2:7, в отличие от многих перечисленных выше эпических повествований, мы не встречаем никаких прямых указаний на «технологию» или процесс создания человека, как в упомянутом египетском мифе. Подобие же Адама своему Создателю утверждается не посредством радикальных антропоморфизмов вроде божественной крови, на которой замешивается глина, или отражения лика божества в воде, а через краткую и емкую формулу
«по образу Божию» (Быт 1:26-27), взятую из предшествующей главы14 и оставляющую огромный простор для богословской и философской интерпретации.
-
II. Идейные корреляции исследуемого учения в Ветхом Завете
Перейдем к анализу идейного содержания рассмотренного сюжета. В нем заключена важная идея сродства человека с окружающей природой, прежде всего с царством животных15 (Быт 1:24-25) [Лопухин, 2015, 6]. Обладая чувственным физическим телом, происходящим из земли, Адам является хотя и высшей16, но неотъемлемой частью материального мира, связанной тесными узами с другими его элементами. Такое мироощущение отчетливо прослеживается в целом ряде других ветхозаветных фрагментов. Вспомним, к примеру, рассказ о грехопадении и одном из его последствий — проклятии всей земли за ослушание человека (Быт 3:6–7, 17–19; 5:29; ср. Рим 8:19–23), повествование о первом человекоубийце Каине и его проклятии от земли, отверзшей свои уста, чтобы вкусить кровь его брата (Быт 4:8, 11–12), или история о всемирном потопе, пришедшем, чтобы истребить все живое на земле за злодеяния человека (Быт 6:5–7; 7). Примечательно, что после завершения бедствия Господь заключает Свой завет не только с семейством Ноя, но и со всеми животными, вышедшими с ним из ковчега. При этом своего рода представителем всей земли в этом договоре является именно человек (Быт 9:8–11). Сюда же отнесем повествование о казнях египетских, поражавших не только население страны фараона-богоборца, но и ее животный мир (Исх 7–12). Наконец, укажем и на тотальное истребление городов Иорданской долины (Содом, Гоморра и др.) за безмерное нечестие их жителей, сопровождавшееся природной катастрофой, истребившей все живое в целом регионе, погрузившемся на дно Мертвого моря (Быт 19; ср. Быт 14:3). Страдания земли за нечестие народа — мотив, не чуждый и пророческой проповеди (Ис 24:1–6; Ос 4:1–3: Зах 5:3; Мал 4:6).
Из указанных отрывков видно, что земля (флора и фауна) в Библии несет на себе бремя человеческих деяний (отнюдь не только в техногенном смысле), их судьбы — не две параллельные, не пересекающиеся линии, но единая реальность взаимосвязи и взаимозависимости. Иначе говоря, человек, взятый из земли, но сотворенный по образу Божию, мыслится Его сотрудником и соработником, перенявшим в седьмой день эстафету созидания и возделывания материального мира (Быт 1:26– 28; 2:2–3) как наместник или домоправитель верховного Владыки всей вселенной (Исх 9:29; Втор 10:14; Пс 23:1; Ис 66:1), нравственно ответственный за все то, что происходит не только с ним, но и с природой.
Помимо этого, анализируемый сюжет (Быт 2:7) имеет и другую важную идейную корреляцию — представление о сущностной несамодостаточности и эфемерности бытия человека в его отрыве от Божественной реальности17. Возвращаясь к приведен- ному выше стиху, заметим, что Адам был создан Всевышним не просто из земли, а из « праха земного» («пыли земной», «персть от земли»18).
Образ земного праха/пепла (персти земли), достаточно часто встречающийся в ветхозаветных текстах (около 110 раз), имеет вполне четкую и прозрачную ассоциативную связь со смертью или смертностью как характеристикой человеческой природы. Так, вышедший однажды из земли, Адам вновь должен в нее возвратиться, поскольку тело его продолжает оставаться хотя и сложно структурированным, но прахом (Быт 3:19; ср. Иов 4:19; 10:9; 34:15; Пс 21:30; 103:29; Еккл 3:20; 12:7).
Указанный образ используется также с целью подчеркнуть слабость человека, его уязвимость и даже ничтожность. Это хорошо видно на примере самоуничижительных формул с устойчивым оборотом: 19!$| *13$ (‘apar wa’eper ) — «прах и пепел», букв. «прах и прах») (Быт 18:27; Иов 30:19) или указаний на попирание праха ногами (Мал 4:3; ср. 1 Кор 4:13). Отметим, что глубокое ощущение слабости, уязвимости и ограниченности человека, весьма характерное для ветхозаветной поэзии, следует уже из самого сущ. В71ЛК (’ ends11 — человек, мужчина, люди), образованного от семитского корня со значением «быть слабым, немощным, болезненным»20 [Hamilton, 2012, 453-454]. Любопытно и то, что пребывание в прахе нередко метафорически предшествует возведению в царское достоинство. Такая интерпретация следует из продолжения ст. 7, в котором вышедший из персти человек оживляется дыханием Самого Творца. В свете повеления Быт 1:27–28 и возможной параллели с 1 Цар 2:8; 3 Цар 16:2 и Пс 112:7–8 она становится оправданной и довольно убедительной [Hamilton, 1990, 157].
При этом необходимо иметь в виду, что несмотря на то, что персть земли зачастую выступает синонимом тления и распада, сама по себе земля (материя, вещество) в библейской картине мира ни в коем случае не есть причина несовершенства окружающей действительности или источник зла в духе платоновских, гностических или манихейских дуалистических концепций. В своем первозданном виде она, как и вся совокупность Божьих творений, характеризуется Им как то, что «хорошо весьма» (Быт 1:31). Лишь человек своим произволением и отпадением от Бога в результате грехопадения (Быт 3) обрекает ее, как и само мироздание, на противоестественную тленность, косность, распад и умирание — т. е. все то, что стало неотъемлемыми свойствами и характеристиками суетного мира под солнцем, о чем с нескрываемым скепсисом пишет премудрый Екклесиаст (Еккл 1:2–3; ср. Иов 7:16; 38:6; 61:10).
Наконец, добавим, что прах — это еще и яркий символ сокрушенного сердца печалящегося, кающегося и смиряющегося человека, осознающего свою вину перед Творцом (Иов 42:6; Дан 9:3-5; Ион 3:6; ср. Мф 11:21; Лк 10:23). Интересно, что древние христиане, как и участники Ветхого Завета (Нав 7:6; Неем 9:1), практикующие обрядовое посыпание головы пеплом в знак раскаяния, сопровождали это действо цитатой именно из книги Бытия: «Помни, что прах ты, и в прах возвратишься» (Быт 3:19) [СБО, 2016, 763].
-
III. Богословская рефлексия библейского учения о создании человека из праха земного.
Ключевые идеи христианской и иудейской экзегезы
Означенный сюжет (Быт 2:7) занимает особое место как в христианской, так и в иудейской раввинистической экзегетической традиции. Разумеется, в рамках отдельной статьи обозревать все возможные его интерпретации было бы нецелесообразно, да и попросту невозможно. Однако вполне разумно выделить некоторые стержневые определяющие идеи в потоке церковных и талмудических толкований, лежащие в основе соответствующих доктринальных антропологических идей.
Что касается христианской мысли, здесь основной будет являться типологическая перспектива антагонизма двух Адамов как родоначальников двух типов человечества: земного и небесного, уходящая своими корнями в новозаветные тексты. Так, используя весьма характерный для библейской письменности литературный прием метонимии21, апостол Павел противопоставляет друг другу две антропологические модели: avQponog xoiKog (человек земной, перстный, тленный) — все потомство первого Адама, и avQponog enoupaviog (человек небесный, духовный, бесстрастный, совершенный) — потомство Второго Адама Иисуса Христа (1 Кор 15:45, 47–49, ср. 3 Ездр 3:21). Здесь оппозиция двух Адамов предстает перед нами как типологическая антитеза двух форм существования, или архетипов бытия: жизни по плоти и жизни по духу. При этом подчеркнем, что первозданный человек, представляя собой удивительное двуединство материального тела и сверхчувственной, разумной и свободной души, не был внутренне дуалистичен. Напротив, плоть, иерархически подчиненная духу, а через это имевшая источник жизни в единении с Творцом, не была необходимо тленной и смертной22, какой она станет только после грехопадения. В таком свете указание на перстность первого Адама является указанием не на его изначальную ничтожность и испорченность и борющее его страстное начало, но на грех, обрекающий человечество на все это и открывающий совсем иную эпоху бытия человеческого естества.
Предложенная ап. Павлом исконно новозаветная типологическая перспектива получает дальнейшее бурное развитие в многочисленных патристических сочинениях, становясь классической идеей церковной экзегезы. Первым из отцов, в чьих трудах мы отчетливо можем наблюдать ее, был сщмч. Ириней Лионский, сделавший антитезу двух Адамов краеугольным камнем своего соте-риологического учения, получившего в науке название «рекапитуляции» (от лат. recapitulatio — возглавление)23. Св. Ириней расширяет богословские рамки означенной идеи, находя новые истолковательные грани, проводя типологические параллели не только между первым и вторым Адамом, но и между первой и Второй Евой (Девой Марией), из Чьей девственной утробы рождается Христос, подобно тому как из невозделанной земли выходит Его древний прообраз (Ириней Лионский, 2008. Против ересей , 308. 3:21:10). Последнюю мысль мы встречаем и у других отцов, в частности у свт. Амвросия Медиоланского (Амвросий Медиоланский, 2000, Беседы на Евангелие от Луки , 1. 1:4) и свт. Василия Великого (Василий Великий, 2002. Толкование на книгу пророка Исаии , 7:2).
В целом, после сщмч. Иринея обозреваемая типологическая антитеза становится общим местом святоотеческой традиции. Помимо уже упомянутых авторов, она присутствует у свт. Афанасия Александрийского, свт. Илария Пиктавийского, свт. Иоанна Златоуста, свт. Кирилла Александрийского, блж. Аврелия Августина, прп. Максима Исповедника и мн. др. В патристических комментариях весьма значим и тропологический (преимущественно аскетический) аспект истолкования образа праха земного. Рассматривая человека в его падшем состоянии, отцы отталкиваются от сюжета Быт 2:7 и говорят о лежащем перед каждым выборе между двумя путями, приводящими к диаметрально противоположным результатам: пути персти (страсти и зла), нисходящем в могилу, и пути духа, ведущем к вечной жизни в единении с Создателем. Сознавая, что в итоге произошло с человеком в райском саду, свт. Василий Великий, обращаясь к исследуемому стиху, утверждает, что человек есть «одновременно ничто и нечто великое» (oti ou§ev Kai Ц^а) (Василий Великий, 1970. Беседы о человеке, 228. 2:2). Так, если он откажется от воли Божьей и решит сам для себя стать мерилом всех вещей, он останется всего лишь перстью земли, из которой и взят, а если сделает шаг в сторону Закона Всевышнего — обретет подлинное величие образа и подобия своего Творца.
Вновь отметим при этом, что перстность человека актуализируется, начинает довлеть над ним и обуславливать его жизнь не по факту происхождения Адама из праха земного, а в результате катастрофы грехопадения, разделившей саму человеческую природу на совершенно различные состояния до и после эмпирического переживания Адамом зла в собственной жизни как состояния естественности и противоестественности.
Наконец, стоит обратить внимание и на аллегорическую дихотомию в церковной экзегезе Быт 2:7, имеющую фундаментальное значение для богословия обожения. Речь идет о пограничном или, как об этом говорит И. Р. Тантлевский, лиминальном24 положении Адама среди всех Божьих созданий. Адам, заключающий в своей природе физическое тело (плоть), происходящее из земли, и разумную, бессмертную, свободную душу, находится на границе двух миров: видимого, чувственного, и невидимого, сверхчувственного, духовного. Такая позиция обуславливала возложенную на первого человека миссию поистине титанического характера25 — стать своеобразным звеном, которое бы могло объединить два указанных самостоятельно несочетаемых архетипа бытия, приводимых Адамом в целокупное преображенное единство с Творцом. В таком ракурсе персть земли предстает перед нами как образ всего материального космоса, стремящегося к совершенству как конечной цели своего существования.
При внешней схожести некоторых истолковательных построений все же принципиально иной взгляд на перстного человека предлагает иудейская мистическая экзегеза, сосредотачивающая свое внимание на явных различиях в повествовании о сотворении человека согласно Быт 1 и Быт 2. Здесь также присутствует антитеза двух Адамов, в которой, однако, видится столкновение совершенного Божественного замысла и его конкретной исторической проекции в мире (воплощения). В такой перспективе фрагмент Быт 1:26–31 интерпретируется как описывающий появление некоего подлинного микрокосма, сотворенного «по образу Божью» и венчающего собой все мироздание. В Каббале, например, он получает имя |1П7Р °7$ (Адам Кадмон — букв. «первоначальный, первозданный человек»), или |1'"7У ОТ? (Адам Элийон26 — букв. «вышний, превосходный человек»). Отрывок же Быт 2:7–22 в таком случае отражает другой архетип — человека, сотворенного «из праха земного», именуемого 7ВУ П7К (Адам Афар — букв. «человек перстный»). Впервые саму идею такого противопоставления мы встречаем у Филона Александрийского. Причем он подчеркивает, что существует огромная разница между Адамом, возникшим по образу Божию, и тем, что формируется из земли. Первый — бестелесный, умопостигаемый, нетленный, не отличающийся половым дуализмом (андрогин — ни мужчина, ни женщина), в то время как последний — чувственный, причастный качественности, состоящий из души и тела, разделенный на два пола и смертный по телесной природе (Филон Александрийский, 2000. О сотворении мира, 82–83. 46:134–135; Берешит Раба, 2012, 140–159. 8:1–13). Именно этот Адам и является реально существующим во вселенной человеком, активным участником исторического процесса. Он, в отличие от своего идеалистического прототипа, внутренне противоречив и таит в себе противофазу двух начал: духовного, Божественного, и материального, чувственного земного. На первый взгляд, тот же антагонизм признается и отцами Церкви, однако, по мнению иудейских комментаторов Торы, такое разделение происходит не в результате катастрофы грехопадения, но изначально заложено в человеке при его создании как оппозиция двух различных начал или устремлений (Пятикнижие и Гафтарот, 1999, 16). При экзегезе ст. 7 раввинистиче-ская традиция обращает внимание на одну любопытную особенность словоупотребления. Так, глагол *1$' (yasar), использованный для описания создания человека (Быт 2:7), содержит две буквы «йуд» (ו ַי ִּי ֶצר), в отличие, к примеру, от повествования о сотворении животных (П3'|1) (Быт 2:19). Эта нетипичная двойная «йота» талмудическими толкователями рассматривается как прикровенное указание на исходную онтологическую двойственность природы человека, содержащей высшее и низшее начала: горнее духовное и низменное животное устремления (побуждения) (Пятикнижие и Гафтарот, 1999, 16; Яаков бен Ицхак, 2012. Цэна у-Рэна, 37–38). Низшее материальное устремление обусловлено происхождением тела человека из земли, а высшее — дыханием жизни, исходящим из уст Бога (Берешит Раба, 2012, 203–204. 12:8).
Иными словами, Адам Кадмон (Быт 1:26–27), свободный от плотских животных страстей и каких-либо изъянов, представляет собой идеальное состояние сотворенной по образу Божьему априорной человеческой природы, в которой господствует духовное Божественное устремление. Он, если угодно, — некая идея человека, тот образец и идеал, который был задуман Всевышним в самом начале Его творчества как совершенное цельное существо. Адам Афар (Быт 2:7), напротив, мыслится как существо нецелостное, включающее в себя, как противоположно устремленные, дыхание жизни и прах земной. Он является своего рода воплощением идеи Кадмона в нашем мире. Этот термин здесь вполне уместен, т. к. параллели с платоновской концепцией довольно очевидны.
Итак, с одной стороны, как христианство, так и иудаизм говорит об определенной двойственности человека, заключающего в себе два разнонаправленных начала: перстное земное и духовное небесное. С другой стороны, что и является коренным отличием двух традиций, христианство говорит о первозданном человеке как о совер-шенном27 двуединстве плоти и духа, свободном от низменных похотений и ставшем тленным в образ персти земли лишь в результате греха, в то время как иудаизм видит в человеке изначальную внутреннюю естественную противоречивость дыхания уст Всевышнего и косности, дебелости земного праха, влекущего Адама идти на поводу у собственных животных инстинктов и страстей28.
Заключение
В данной статье был рассмотрен библейский рассказ о сотворении первого человека из праха земного (Быт 2:7). В фокусе внимания находились следующие аспекты: 1) истоки происхождения указанного сюжета; 2) его параллели в культурах различных народов Древнего мира; 3) осмысление идеи (ее корреляции) в ветхозаветных текстах и 4) фундаментальные смыслообразующие идеи христианской и иудейской экзегезы означенного стиха.
Как было показано, корни исследуемого архетипического сюжета уходят в глубокую древность досемитского общеафразийского прошлого и, по всей видимости, образуют некую исходную общую религиозную антропогоническую парадигму, имеющую многообразные параллели в религиях и мифологиях народов по всему миру: Ближний Восток, Африка, Центральная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания. Подчеркнем, что столь широкое распространение исследуемой идеи ни в коем случае не говорит о слепом заимствовании бытописателем хорошо известного фольклорного материала, не получившего у древних израильтян никакого творческого осмысления и претворения. Напротив, обращение к различным ветхозаветным текстам показывает, что в Библии происходит его определенная демифологизация и развитие.
Сюжет Быт 2:7 хорошо отражает некоторые антропологические воззрения и образ миросозерцания Древнего Израиля, имея ряд важных идейных корреляций на страницах книг Ветхого Завета. Наиболее характерны из них следующие: 1) идея сродства человека с царством природы, в особенности с животным миром; 2) идея общности судеб человека и окружающего его универсума, нравственной ответственности первого за все, происходящее во вселенной: 3) представление о сущностной несамодоста-точности, слабости, уязвимости и даже ничтожности человека в его отрыве от Божественной реальности; 4) глубокое осознание конечности собственного земного бытия, тленности и смертности человеческого рода.
Обращение к христианской и иудейской экзегезе анализируемого эпизода позволяет убедиться в том, что эти две богословские традиции при всей кажущейся схожести истолковательных интуиций и подходов, в частности типологического или аллегорического антагонизма, предлагают все же принципиально разные взгляды на природу человека, водораздел между которыми необходимо искать в области учения о грехопадении.
Список литературы Библейская антропология: ветхозаветное учение о сотворении человека из праха земного (Быт 2:7). Истоки, значение, богословская рефлексия в христианской и иудейской традиции
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Современный русский перевод РБО: учебное издание. М., 2017.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические и неканонические. М., 2010.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого Завета на церковнославянском языке. М., 2014. Т. 1.
- Biblia Hebraica Stuttgartensia / Ed. K. Eiliger, W. Rudolph. 5 Aufl. Stuttgart, 1997.
- Аврелий Августин (1998) — Августин Аврелий, блж. Творения. О граде Божием: книги XIV-XXII. СПб., Киев, 1998.
- Амвросий Медиоланский (2000) — Амвросий Медиоланский, свт. Беседы на Евангелие от Луки. Цит. по: Поликарпов Д., проф. Толкование святых отцов на мессианские места Библии: книги законоположительные и исторические. [Репринт.] М., 2000.
- Берешит Раба (2012) — Мидраш Раба. Берешит Раба. М., 2012. Т. 1.
- Василий Великий (1970) — Василий Великий, свт. Вторая беседа о человеке // SC 160. P. 228, 280 B. Paris, 1970.
- Василий Великий (2002) — Василий Великий, свт. Толкование на книгу пророка Исаии. М., 2002.
- Иосиф Флавий (2011) — Иосиф Флавий. Иудейские древности // Иосиф Флавий. Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2011.
- Ириней Лионский (2008) — Ириней Лионский, св. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 2008.
- Пятикнижие и Гафтарот (1996) — Пятикнижие и Гафтарот: ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием «Сончино». М., 1996.
- Филон Александрийский (2000) — Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000.
- Яаков бен Ицхак (2012) — Яаков бен Ицхак Ашкенази. Цэна у-Рэна: Пятикнижие Торы с комментариями. Берешит. М., 2012.
- Графов (2019) — Графов А. Э. Словарь библейского иврита. М., 2019.
- Дьяконов (1992) — Дьяконов И.М. Праотец Адам // Восток. 1992. № 1. С. 51-58.
- Леон-Дюфур (1990) — Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия. Пер. со 2-го фр. изд. Брюссель, 1990.
- Лопухин (2015) — Толковая Библия, или Комментарий на все Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: в 7 т. / Под ред. А.П. Лопухина. Т. 1: Книга Бытие. Изд. 5-е. М., 2015.
- Лосев (2001) — Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
- Лосский (2010) — Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. СТСЛ, 2010.
- СБО (2016) — Райкер Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. Словарь библейских образов. СПб., 2016.
- Сидоров (2011) — Сидоров А. И.Святоотеческое наследие и церковные древности. М., 2011. Т. 2.
- Тантлевский (2000) — Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000.
- Тантлевский (2016) — ТантлевскийИ.Р. Очерки по истории еврейской религиозно-философской мысли. СПб., 2016.
- Фрэзер (1989) — Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989.
- Cassuto (2005) — Cassuto U. A Commentary on the Book of Genesis. Part I: from Adam to Noah. Illinois, 2005.
- Hamilton (1990) — Hamilton V.P. The Book of Genesis. Part 1: chapters 1-17 // The New International Commentary on the Old Testament Series. Michigan, 1990.
- Hamilton (2012) — Hamilton V.P. D7N // The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Michigan, 2012. Vol. 1. P. 262-266.
- Hamilton (2012) — Hamilton V.P. ©Ш // The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Michigan, 2012. Vol. 1. P. 453-455.
- Klein (1987) — Klein. E. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. Jerusalem, 1987.
- Maass (1997) — Maass. DIN // Theological Dictionary of the Old Testament. US, 1997. Vol. 1. P. 75-87.
- Ploger (1997) — Ploger J. G. n»4N // Theological Dictionary pf the Old Testament. US, 1997. Vol. 1. P. 88-98.
- Wenham (1987) — Wenham G.J. Genesis 1-15 // A Word Biblical Commentary Series. Dallas, 1987. Vol. 1.