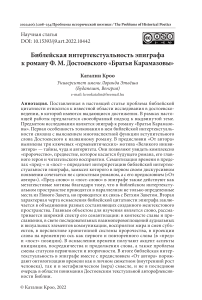Библейская интертекстуальность эпиграфа к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Автор: Кроо Каталин
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Поставленная в настоящей статье проблема библейской цитатности относится к известной области исследования в достоевсковедении, в которой имеются выдающиеся достижения. В рамках настоящей работы предлагается своеобразный подход к выдвинутой теме. Предметом исследования является эпиграф к роману «Братья Карамазовы». Первая особенность толкования в нем библейской интертекстуальности связана с выяснением многоаспектной функции вступительного слова Достоевского к названному роману. В предисловии «От автора» выявлены три ключевых «герменевтических» мотива «Великого инквизитора» - тайны, чуда и авторитета. Они позволяют увидеть комплексно «пророчество», предвестие, которое касается будущего романа, его главного героя и читательского восприятия. Семантизация времени в пределах «пред-» и «пост-» определяет интерпретацию библейской интертекстуальности эпиграфа, замысел которого в первом своем дискурсивном появлении сочетается не с целостным романом, а с его предисловием («От автора»). «Пред-слово» и «пост-слово» в эпиграфе также действуют как метатекстовые мотивы благодаря тому, что в библейском интертекстуальном пространстве приводятся в параллелизм не только определенные места из Нового Завета, но проводится их связь с Ветхим Заветом. Вторая характерная черта осмысления библейской цитатности эпиграфа заключается в объединении разных составляющих созданного межтекстового пространства. Главным объектом для изучения является слово, рассматривается широкий спектр его семантизации: в контексте славы и прославления, в свете последовательных взаимоперевоплощений аудиальных и визуальных элементов коммуникации, восприятия мира и смен субъектов, в перспективе хронотопной системы пророчества, в проекции слова на временную ось как первого и повторенного слова (в «пред» и «пост» позиции). В осмыслении времени получают акцент аспекты инициации, посредничества и продолжения слова, а также проблема смены статусов первичности и вторичности. В итоге библейская интертекстуальность в эпиграфе вместе с предисловием «От автора» порождают онтологизацию времени как в личном сюжетном (внутренний рост человека), так и в метафизическом (вера) смысле, и не в последнюю очередь в области понимания Достоевским текстуальной авторефлексивности Библии.
Достоевский, братья карамазовы, эпиграф, библейская интертекстуальность, ветхо- и новозаветные параллелизмы, евангелие от иоанна, книга исайи, временная онтологизация слова, хронотоп, пророчествo, вербальность, визуальность, пред-слово, пост-слово
Короткий адрес: https://sciup.org/147236195
IDR: 147236195 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10442
Текст научной статьи Библейская интертекстуальность эпиграфа к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Ветхо- и новозаветные источники
Обнаруженное в предисловии к «Братьям Карамазовым» художественное представление мотивов тайны , чуда и авторитета в их герменевтической семантической перспективе (см.: [Кроо, 2021]) позволяет интерпретировать в новом освещении и эпиграф — первый нарративный элемент1 — романа. К толкованию приведенной там евангельской строки от Иоанна (Ин. 12:24) нами привлекается более полный библейский источник2. Мы будем рассматривать новозаветный контекст эпиграфа3 с уч етом его ветхозаветного начала.
Прежде чем приступить к главному материалу исследования, для иллюстрации механизма цитатного дополнения, сращения и согласованности библейских претекстов приведем следующий пример на основе Послания к Евреям. Одним из способов «дополнения» является приведение в параллелизм текста эпиграфа не только с единственным местом Нового Завета. Создается эквивалентность между цитатой из Евангелия от Иоанна и одной из ключевых идей Послания к Евре-ям4. Она ставит вопрос веры и перерождения в аспекте взаимосвязи настоящего и будущего: как «смерть» зерна порождает будущую жизнь, умножая ее, таким же образом говорится о законе, что он имеет только «тень будущих благ, а не самый образ вещей» (Евр. 10:1). Соответственно этoму интерпретируется вера: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1). Тема возникновения видимого из невидимого , связанная с верой , развивается далее: «Верой познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11: 3), — после этого приводятся ветхозаветные примеры действия веры. В пределах созвучности двух цитат (Евангелие от Иоанна; Послание к Евреям) в «Братьях Карамазовых» образ пшеничного зерна, падшего в землю (на данном фоне: невидимого зерна под землей) и порождающего видимый плод (по ассоциациям: над землей) привлекается к идее веры, которая как невидимая тень «будущих благ» служит залогом «осуществления ожидаемого ». Уверенность в невидимом приведет к появлению видимого (в определенном смысле это можно понять как откровение).
С одной стороны, речь идет о соотношении Старого и Нового Заветов (и ритуалов), как о прошлом и о настоящем (последнее оценивается как будущее с точки зрения прошлого). С другой, и адресат Нового Завета получает поучение, что «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14). Весь ход мысли ориентируется на утверждение человеческой активности в возникновении, сохранении и усилении веры. Представление противоречия между жертвоприношением по старому закону (см. нужное повторение жертвоприношения каждый год, ведь старый закон «никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10:1)) и по новой вере (установленной самим Христом, который «однажды принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:28) (курсив в источнике. — К. К.). Быть «очищены однажды» (Евр. 10:2), однако, было дано только Христу, который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8), а человек должен пребывать в поисках и ожидании «будущих благ»5.
Хронотопное осмысление пророчества во взаимосвязи настоящего и будущего
Мысль об упавшем в землю пшеничном зерне, которое должно умереть, чтобы не остаться одним («…а если умрет, то принесет много плода»)6, составляет часть пророчества Иисуса о собственном прославлении (см.: Ин. 12:24). O понятии зерна как семени, жизнь которого обусловлена смертью, уже не один раз говорилось в критических исследованиях, посвященных «Братьям Карамазовым»7. Благодаря последовательности мотивов в романе рождается смысл, связанный с родной землей (метафорично: с человеческой душой, в которую как зерно вторгается чувство или слово), откуда берет свое начало идея духовного роста и возникновения нового миропонимания у литературного персонажа (перерождение, воскресение из мертвых8). В этом семантическом окружении зерно / чувство / слово (учение) (см.: [Бондаревская]) со своими признаками9 имеют свой устойчивый фон концептуализации соотношения жизни и смерти, а также физического и духовного движения в этих пространствах. Самая прямая связь с эпиграфом в этом плане содержится и развертывается в идейном материале поучений Зосимы по отношению к судьбе Алеши, исповедям Дмитрия Карамазова, особенно в свете шиллеровского элевзинского праздника10, и поэме Ивана «Великий инквизитор»11.
Далее обратим внимание не на связь эпиграфа с прозрением главных персонажей, а вчитаемся в тот его библейский контекст и вслед за ним возникающую интертекстуальную системность, которые позволяют увидеть эпиграф также, как и предисловие, — в перспективе герменевтической проблема-тизации. В центре такой художественной семантизации стоит осмысление времени, точнее, временных пластов в их взаимоотношениях.
Пророчество о прославлении Иисуса, по сути дела, является его самоидентификацией, не только предсказанием будущего жизненного пути, но и его толкованием в абстрактном духовном смысле, т. е. как духовный сюжет. Христово самоопределение вырисовывается в двух направлениях. Во-первых, подчеркивается непонимание публики, к которой адресовано пророчество в качестве части полной притчи. В ней происходит противопоставление «любящ[его] душу свою», который готов погубить свою душу, и «…ненавидящ[его] душу свою в мире сем», который «сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12:25). «Сей мир» и жизнь вечная метафоризируются как разные онтологические сферы души: кто любит свою душу «в мире сем», губит ее, а кто отказывается от нее здесь, способен сохранить ее вечную жизнь (вечная жизнь, таким образом, зависит от человеческого действия, проявляющегося в его отношении к собственной душе). Транспозиция души в вечное существование (как человеческое душевное действие) получает дальнейшее толкование через измененную формулировку: кто служит Иисусу («где Я, там и слуга Мой будет»), «того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26). Иисус стоит между потенциальными Своими «слугами», которым проповедует, и Отцом Своим («Отец Мой» (Ин. 12:26)), Который «того почтит», кто отдаст свою душу уже «в мире сем». Этот персонаж останется с Иисусом и получит почтение Отца и в другом мире по принципу «где Я, там и слуга Мой будет» — и тогда, когда Иисус будет уже не «в мире сем», а придет Его прославление. Но пока Он сообщает о том, что Его собственная душа возмутилась, так как «пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12:23). С этим утверждением соотносится вопрос возмущенной Его души: «…что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Ин. 12:27).
Структура проповеди-притчи выдвигает на передний план посредническую роль Иисуса в трех аспектах. Он стоит в пространстве сего мира, говоря о пространстве вечной жизни, куда можно с ним вступить через действие человеческой души («где Я, там и слуга Мой будет»). Он стоит на стыке двух миров, которые в художественном тексте Евангелия воплощают два различных хронотопа. Во-вторых, он посредничает между Своими потенциальными слугами и Отцом Своим. Такое посредничество не является простой частью хронотопной медиации (согласно которой вера в Иисуса и через него в Отца в будущем перенесет верующего в жизнь вечную), так как Иисус подчеркивает необходимость приобретения веры пока Он существует здесь, «в мире сем»: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12: 36); «еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет» (Ин. 12:35). Сей мир и вечная жизнь, таким образом, представляют собою не простую дихотомическую пару, а, наоборот, «сей мир» является источником другого хронотопа, залогом же соединения с вечной жизнью является такой союз с Иисусом «в мире сем», который затем почтит Отец. Сей мир в то же время соотносится с понятием сей период внутри хроно-топного пространства, который получает обозначение как период, когда «свет с вами», «еще на малое время <…> пока есть свет», т. е. время до момента, когда «придет час». С другой стороны, этот час уже пришел («...пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12:23); «…на сей час Я и пришел» (Ин. 12:27)).
Все это значит, что Иисус действительно посредничает в трех хронотопных аспектах: 1) он стоит на пересечении сего мира и пространства вечной жизни, которые сопоставляются при помощи двух понятий души; 2) раздваивается само пространство всего мира: отделяется та часть верующих (следующих Иисусу), которая видит свет уже здесь, еще до его смерти нa кресте; 3) время периода до смерти («малое время», «доколе свет с вами») соотносится со временем «сей час», который уже пришел, но, смотря на самую смерть на кресте, Иисус пока только предсказывает этот акт: «…когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32), a в тексте объясняется, что этими словами он дает «разуметь, какой смертью Он умрет» (Ин. 12:33). Таким образом, дихотомия настоящего и будущего многократно оттеняется: акцент получает «сей мир» и «сей час», которые ведут в вечную жизнь12, если душой понять тот свет, который в Иисусе от Отца его; но «малое время» и «сей час» рифмуются с часом смерти, который неразделим с прославлением Христа. Тем не менее «сей час» возмущает душу самого Христа, который не для себя, а для своих потенциальных слуг просит Бога прославить его собственное имя: «Отче! прославь имя Твое». Прославление имени Отца Им Самим также рифмуется с прославлением Христа. Отцовское прославление Богом Своего собственного имени приходит подобно тому, как уже «пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12:23): после просьбы к Отцу «Отче! прославь имя Твое» следует сообщение: «Тогда пришел с неба глас». Мысль, что пришел час для Иисуса соотносится с тем, что пришел глас по просьбе Иисуса, который этим предупреждает своих слушателей, что появился тот самый момент (сей час) в течении времени, когда прославление должно реализоваться, т. е. проистечь.
То, что происходит в плоскости хронотопного понимания времени или в зависимости от его концептуализации — это, по сути дела, сближение настоящего (сей период) и будущего (смерть и воскресение); сего мира и вековечности (человеческого и божественного хронотопов); времен, как сей час, который уже пришел, и сей час, в который произойдет прославление Христа; времен прославления Отца и прославления Сына. А с временем будущего прославления Христа в форме своего воскресения сливается одновременность прославления слуг, которых, как предсказывает Иисус, Он привлечет к себе, когда «вознесен» будет «от земли» (Ин. 12:32).
Эпиграф к «Братьям Карамазовым», как видно, взят в качестве фрагмента того полного евангельского контекста пророчества, предсказания, главная семантическая линия которого развертывается вокруг проблемы времени, точнее, вокруг нахождения действия «сего часа» (момента, фрагмента в течении времени от настоящего к будущему), когда событие прославления может произойти и, главное, интерпретироваться по ходу сближения перетолкованных понятий, заложенных в прогрессе времени от настоящего к будущему и обратно к настоящему . По ходу толкований часа (который только придет, но, по сути дела, уже пришел) и прославления Иисуса (которое предвещается тем, что «пришел с неба глас» Отца) придается новый оттенок значению того часа и пространства, в которых суждено прославиться «Сыну Человеческому».
Осмысление пророчества как текста во взаимосвязи настоящего и прошлого
Иисус является не простым посредником между Отцом и человеком. Своеобразным свойством его посредничества становится то, что такое действие воплощается в текстовой форме. А проблема текстуальности касается не только плана событий в рассказанной евангельской истории, но и его текстовой реализации в Новом Завете.
Пророчество о прославлении — это речевой акт предсказания, с которым, — как было указано выше, — теснейшим образом связано обращение Иисуса к Отцу с просьбой прославить имя Свое. Просьба выполняется путем артикуляции слова, высказанного в рамках перформативного акта. Пришедший с неба глас говорит: «…и прославил и еще прославлю» (Ин. 12:28). Голос реализует прославление (как слово-действие), связывая прошлый акт («прославил») с будущим («еще прославлю»). Перед нами интересное явление: речь идет не просто о том, что на стыке двух временных плоскостей появляется настоящее прославление, а данное перформативное слово-действие способно разыгрываться как раз в таком временном промежутке, который связывает прошлое и настоящее, как бы вырезая «сей час» из континуума течения времени от прошлого к будущему. Идея «сей час» связывает прославление Иисуса и акт прославления божественными словами. Произнесение божественных слов мотивировано словесной просьбой самого Иисуса в настоящем, но такое божественное самопрославление уже случилось ранее и по утверждению Бога также случится в будущем. Иисус играет роль посредника между прошлой и будущей речью Отца, которую Он адресует слушателям (публике): «…не для Меня был глас сей, но для народа» (Ин. 12:30).
Очень важным моментом является то, что «глас сей» Отца в «час сей» инициирован Иисусом, в то время как Отец «и прославил и еще прославит» имя свое. Это представляет собой ключевой компонент в толковании семантического сближения двух евангельских персонажей, Отца и Сына, а также временных пластов как настоящего и будущего, так и прошлого и будущего (эти пласты приводятся в эквивалентность, в определенную форму уподобления и слития). Начало слова Отца по инициативе Сына имеет выдающееся значение по той причине, что оно изменяет мотивировочный ход в артикуляции слова, прогрессирующей от Отца к Сыну.
Инициатива Иисуса словом в смысле просьбы к Богу прославить Себя собственным словом, таким образом, приобретает сильный семантический акцент, связанный с осмыслением соотношения прошлого и будущего в свете именно теперешнего момента действия словом, изъятого из временного континуума, путем превращения его в весомый момент произнесения слова. В этом русле создается соотношение уже сказанного слова и еще предстоящего слова в гармонии с тем, как изменяется сам субъект-источник речи, точнее, его первичность. Иисус должен действовать согласно божественному слову, Он поступает по заповеди Отца: «…как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14:31); ср.: «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, чтó сказать и чтó говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, чтó Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (Ин. 12:49–50)13. Говорить и творить в духе того и согласно тому, как сказал Отец, означает предшествующее слову Иисуса, в смысле пред-слова по отношению к Иисусову слову (это, по сути дела, предсказание в значении того, что сообщено, т. е. уже сказано; ср.: заве́т. общеслав., производное от zavětiti «завещать», префикс. образования от větiti «советовать, говорить» — от větъ, см. вече14). То, что уже сказано, соответствует вечной жизни (Ин. 12:50), но само слово может стать вечным лишь при условии, что оно повторяется. Иисус участвует в создании повторения именно тем, что Он просит Бога вернуться к акту прославления Своего имени, о чем затем утверждает глас с неба (Отца), что: «…и прославил и еще прославлю».
Творение Иисуса («так и творю») сводится к его вступлению в такую временную непрерывность, в которой Он Сам становится инициатором повторения старого слова . Этим Он не только выступает хранителем живой жизни в форме связывания старых и новых слов (заповедь) и славы Отца, но дает осознать значение настоящего как выделенного момента в преемственности между прошлым и будущим. К прославлению Отца в будущем принадлежит и то, что теперешние слушатели, верующие, будут помнить слова и действия Христа. Разница между непониманием в настоящее время и уразумением в будущем подчеркивается в тексте не один раз — см. комментарий Иисуса при умывании Им ног учеников: «…чтó Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 13:7).
Прошлое как «старое слово» из Ветхого Завета: Книга Исайи
Но в Евангелии в качестве старого слова постоянно указываются и соответствующие места Ветхого Завета. Как пример можно привести из той же 12-й главы Евангелия от Иоанна, откуда взята цитата для эпиграфа к «Братьям Карамазовым», описание того, как ученики осознают вход Иисуса в Иерусалим (Ин. 12:16) в значении претворения в жизнь предписанного о Нем: «Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему» (Ин. 12:16). Отсылка к Книге пророка Захарии (Зах. 9:9) в данном месте приводится имплицитно, но вполне согласно структурной связи Ветхого и Нового Заветов. Связь между двумя Заветами можно понять в духе теологической герменевтики, предполагающей взаимоотношения двух крупных частей Библии согласно логике появления типов (префигурации, праобразы) и антитипов (их исполнение)15. Особенно важным с точки зрения привлечения внимания к самому ветхозаветному прошлому евангельского текста является то, что в контексте безверия слушателей Иисуса возникает и явная ссылка на пророчество Исайи о слепых глазах: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исайи пророка: <…>. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исайя, “ Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их”. Сие сказал Исайя, когда видел славу Его и говорил о Нем» (Ин. 12:37–4116).
Ветхозаветное место ссылки (Ис. 6:9) с его полным контекстом любопытно тем, что там определяется призвание Исайи, который, очистившись одним из серафимов посредством горящего угля («и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:7), ср.: «…я человек с нечистыми устами…» (Ис. 6:5)), может посвятить себя призванию служить посланником Бога после того, как он слышит вопрос Бога: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите» (Ис. 6:8–9). Структура чередования слов Господа и прославляющих его серафимов и слов Исайи формируют последовательную смысловую линию. Сначала Исайя признается / раскаивается в том, что его уста нечисты: «И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Лишь после формулировки самим Исайей такой жалобы совершается очищение его уст серафимом. Подобным образом Господь не от себя посылает Исайю к народу, а сам Исайя предлагает себя в качестве посланника. Вопросы Господа задают загадку в отношении субъекта действия, посредника: «кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?», на что Исайя добровольно напрашивается выполнить задачу («И я сказал: вот я, пошли меня»). Только в качестве ответной словесной реакции следует божественное слово с поручением, адресованным Исайе, передать слова Господа. А то, чтó посланник Бога должен передать словами народу, парадоксальным образом связано с тем событием, которое произошло с ним самим.
Речь идет о том, что он видел Господа в храме (Ис. 6:1). Подробно описывается его визуальный опыт (Ис. 6:2) и то, как он слышит речь окружающих серафимов, прославляющих Бога: «И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6:3–4). В результате видения Исайей сцены с Господом и серафимами и слушания / слышания слов прославления Бога он признается в нечистоте своих уст, что и вызывает действие очищения. Исайя, следовательно, становится посланником Бога благодаря тому, что он видел Бога, слышал речь, восхвалением творящую божественную славу, затем сформулировал собственное осудительное слово о себе и народе, а сделал это именно на фоне своего видения. Он выражает свое горе от нечистоты, внушая, что это горе берет свое начало от его видения: «...и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). На этом фоне сообщение, которое Исайя как божественный посланник должен передать народу о его неспособности видеть и слушать, о его глазах и ушах, гармонирует с тематическим ядром описания того события, которое случилось с самим Исайей лично, начиная с собственного видения. Он должен учить народ словами: «…слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите» (Ис. 6:9). Идея безрезультативности видения и слышания явно противопоставлена результативности действия видения и слышания Исайей. Он может посредничать между Богом и народом именно благодаря тому, что ряд ‛видения (Бога) — слышания (божественного прославления серафимами) — формулировка собственного слова (раскаяние)’, а затем выбор собственного призвания в форме ответа словом берут свое мотивировочное начало не в очищении Исайи горящим углем (действие серафима), а в самом первоначальном видении и слышании им описанной сцены в храме. Чтение полного ряда, в котором чередуются действия очами и устами, дает возможность интерпретировать слова серафима («...вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6: 7)) как декодировку смысла той семантической линии, которая восходит к изначальному мотивировочному источнику, связанному с опытом Исайи.
Видимое переводится многократно в слово. Во-первых, Господь представляется, сидя «на престоле высоком и превознесенном и края риз Его наполняли весь храм». Топографическая высота (место престола) соотносится с идеей того «превознесения»17, которое воплощается в серафимовых словах прославления Господа. Они восхваляют Бога, реализуя его возвеличение в словесной формуле «Свят, Свят, Свят Го- сподь Саваоф! вся земля полна славы Его!». Превознесение как действие прославления словом выражается тавтологически: троекратно звучит святость; в имени Саваоф подчеркивается всемогущество, связанное затем с мотивом полноты, тоже выраженной двояко, — относительно земли фигурирует определение «вся», в аспекте предиката тематизируется полнота («полна»). Высокий и превознесенный престол как компонент видения, таким образом, получает соответствие в словесном переводе величия Бога, в прославлении, в котором выделяется мотив полноты с его атрибутом всё (вся). При этом полнота и вся в прославлении составляют непосредственный перевод части описания видения: «…и края риз Его наполняли весь храм». В дальнейшем слова о всемогуществе Господа («вся земля полна славы Его!) — по функции своей: перевод видения в слово не в форме экфрастического описания, как в случае первоначального представления видения (с начала шестой главы), а в перформативном речевом акте, воплощающем семантическую модель славы — получают новое обозначение, новый, обратный перевод. Это происходит тогда, когда определяется эффект прославления: «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6:4). Возвращается мотив верхней позиции, соответствующей высокой духовной ценности, а событие, касающееся «верхов врат», совершается именно «восклицающими гласами», возвеличивающими Господа, что и влечет за собою подобную аудиальной визуальную полноту в храме, наполнившемся курениями. Этот последний элемент семантического ряда возвращает читателя библейского текста к точке, откуда отправилась вся сюжетная линия взаимных переводов между действиями видения и слышания, как микроактами, в которых участвует Исайя (Ис. 9:1–13).
В процессе указанной семантической последовательности наблюдается двойное осмысление субъектов действия. Чередование визуального и аудиального действий рифмуется с постоянной сменой их субъектов. Видение Исайи на событийном уровне изображения, как мы отметили, перевоплощается в слова серафимов, образы которых затем возвращают чтение опять к фигуре Исайи. Он же в роли зрителя переживает новый опыт наполнения храма («курениями», после того, как «края риз Его наполняли весь храм»); затем чередуются образы Исайи (раскаяние), Господа (вопрос) и вновь Исайи (ответ в виде формулировки призвания посланника), Господа (заповедь), после чего следует диалог между Богом и Исайей. Одновременно, благодаря тому что в первой части анализируемой шестой главы (Ис. 6:1–4) указанные переходы между видением и слышанием приводятся в пределах видения Исайи (от видения им Господа и серафимов в высоком и превознесенном пространстве до нового видения им высоты «верхов врат»), всё, что происходит, подчеркивает его субъектность. Он как субъект является носителем освоения визуального и слухового опыта и толкования. Действие серафима, совершаемое горящим углем, вступает в параллелизм с действием серафимов, реализованным словом прославления, поэтому адресованное Исайе слово, сообщающее о его очищении, оказывается мотивированным его собственным опытом. В структуре обрамления, которая выдвигает в центр субъектность Исайи, Серафимово слово приобретает значение итогового выражения всего того, что Исайя пережил на разных этапах своего видения. В результате он уже может говорить о собственной нечистоте, ссылаясь на свое видение. Как раз с этим новым словом соотносится смысл речи серафима: «… вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исайя в этом месте опять переводит описание визуального опыта (действие углем) в описание слова («один из Серафимов» после действия «и сказал» (Ис. 6:6, 7)). Аналогично, в видении Исайи коренится возможность соотнeсти прославление Господа (его превознесение «глас[oм] восклицающих») и Eго голос, приходящий из верхнего пространства. Сеть эквивалентностей, возникающих благодаря переводам мотивов видения и речи (со сменой субъектов), порождает четкую мотивировочную линию перевоплощения Исайи. Его видение обрамляет все семантические ходы, которые, следовательно, отмечают его собственный путь. Каждая новая эквивалентность обеспечивает ключ к декодировке его собственного внутреннего процесса. А конец ряда эквивалентностей в шестой главе Книги Исайи содержит его речь. Она в форме персонального повествования рассказывает о его собственной истории в библейском тексте.
Такой абстрактный семантический кульминационный пункт речи составляет новое обрамление ко всей главе, движущейся от видения Исайи в храме до его слова-рассказа о себе в релевантном сегменте Ветхого Завета. Там семантически все относится к его фигуре, и в центре стоит идея его инициативной функции. Инициируется им самим весь сюжетный ход его видения (он как бы самому себе адресует своим видением), подобно тому, как до прославления Господа сообщается и о серафимах, что «взывали они друг к другу », т. е. к самим себе. Прославление в Книге пророка Исайи будет соотноситься с местом из Евангелия от Иоанна, где Бог говорит от своего имени, что «и прославил и еще прославлю» (Ин. 12:28). Этими словами об акте самопрославления, воплощаемыми «с неба глас[oм]», расшифровывается смысл обращения Иисуса к Богу с просьбой: «Отче! прославь имя Твое» (Там же).
В указанном месте Евангелия от Иоанна текст напоминает читателю, что и Бог должен обратиться к самому себе в форме автокоммуникации. Контекстом данной идеи является ситуация, в которой Иисус выступает инициатором прославления Бога своим собственным словом, связывающим прошлое, настоящее и будущее. Этим инициаторством, в форме которого он отмечает божественную автокоммуникацию, как уже подчеркивалось ранее, Христос приобретает роль посредника (между землей и небом и между временными пластами, следовательно, между разными онтологическими сферами, включая физическую и духовную). Посреднической ролью Иисуса и Исайи создается параллель между двумя фигурами. Оба посредничают в деле собственного перевоплощения (адресуют слово самим себе), что созвучно тому, что они помнят и подтверждают творческую функцию Бога. Поэтому могут стать его посланниками. Не случайно цитируется в Евангелии в контексте безверия ( «не могли они веровать» (Ин. 12:39) ) релевантная часть из Книги пророка Исайи — его слова, когда, по свидетельству Евангелия, он «видел славу Его и говорил о Нем» (Ин. 12:41)18. Ветхозаветное место, отождествляемое отсылкой, принадлежит к сообщению Господа о том , чтó Исайя должен сказать грешному народу:
«…слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите» (Ис. 6:9–10). Это есть тo заповедальное обращение Господа к Исайе, которое созвучно замыслу пережитого им в области видения и слышания. Как было указано, такой личный опыт как результат (уразумение Исайи) противопоставляется недостатку такого качества в грешном, неверующем народе.
Временная онтология значения изображающего и изображаемого слова — вербальность и визуальность
Обнаруженные библейские места, по своим внутренним перекличкам в ходе совместного чтения релевантных частей Ветхого и Нового Завета, вместе составляют претекстуальный фон для интертекстуального толкования эпиграфа к «Братьям Карамазовым» Достоевского. Вернемся к толкованию эпиграфа в свете мотива умершего и умножающегося зерна, мета-форизирующего судьбу Христа, свершившуюся самопожертвованием для будущего воскресения Его Самого и верующих в Бога. В этом свете зерно метафоризируется как слово-учение (новая заповедь) и как целостный персонаж Христа как зерна (по словам Достоевского: «образ Христа»19), как его личностное начало, из которого вырастает новая, вечная жизнь, новая вера, интерпретируемые в Новом Завете. Данный семантический пласт, в то же время, обогащается именно в сети тех смысловых взаимоотношений, которые были указаны выше. Они выдвигают в доминанту другое, дополняющее толкование, в центре которого стоит семантизация слова — славы, включающая в себя следующие моменты: проблему инициации, посредничества, повторения, перевода (переформулировки, обновляющего толкования) слова. Эти вопросы вставлены в узкий контекст онтологии времени, в соотношение прошлого, настоящего и будущего в разных измерениях. Пророчество осмысляется не просто с точки зрения объекта предречения, а толкуется прежде всего как воплощение ретро-проспективной перспективы (вспоминание в более поздний временной период того, как в прошлом было представлено осуществление чего-либо в будущем). Такая перспектива привлекает внимание к самому факту повторения слов, к соотношению предсказания и сказания с временной точки зрения настоящего. В настоящем данная связь осознается и толкуется в согласованности в ней предварительного и настоящего слова (пред-слова и слова). В этой перспективе можно интерпретировать слово, направленное на будущее при осознании того, что данное настоящее слово также будет подвергаться толкованию в будущем (когда оно вспоминается, создавая ретро-проспективную точку зрения). Тема предсказания и пророчества, следовательно, сама по себе включает в себя идею динамического процессуального развертывания смысла слова, онтологию значения слова во времени. В библейском тексте пророчество затрагивает двойную кодировку смысла слова: в аспектах изображенного и изображающего слова. Под первым подразумевается слово, которое приобретает значение в сюжете как действии, связанном с изображенным героем — см. высказывание слова как элемента событийного мира. Изображающее слово, со своей стороны, получает толкование не с точки зрения его содержания, т. е. в рефeренциальном отношении (имея в виду, что Иисус говорит о том, что зерно умножается или Господь выбирает посланником Исайю, объясняя ему чтó нужно передать в качестве поучения грешному народу — референт слова тогда появляется или с прямым, или с метафорическим значением). Изображающее слово интерпретируется с точки зрения его изображающих, обозначающих, сигнализирующих качеств. К таким чертам принадлежит оцениваемость слова как речевого акта, вставленного в ряд параллельных семантических контекстов акта высказывания.
Для примера приведем характеристику появления притчи Иисуса о пшеничном зерне в качестве речевого акта. Он возникает в контексте мотива славы, в момент просьбы к Иисусу: после того, как еллины «просили его (Филиппа. — К. К.), говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21) и «Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу» (Ин. 12:22) (курсивы в источнике. — К. К.), «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 2:23). Таким образом, речевой акт характеризуется своей контекстуализиро-ванностью в ряде параллелизмов, создающих следующую последовательность: еллины хотят видеть Иисуса, просьба к Филиппу → Филипп передает данное желание Андрею (этим он включается в круг субъектов желания) → Андрей и Филипп вместе формулируют просьбу к Иисусу относительно желания видеть его (круг желающих расширяется до собирательности еллинов, Андрея и Филиппа). Слова Иисуса, таким образом, в ситуации возникновения данного речевого акта оказываются выполнением просьбы, касающейся возможности (у) видеть его. Происходит семантический перевод видение → слово со смысловой включенностью видения в словах. Следовательно, когда в ответ Иисус говорит о том, что «пришел час прославиться Сыну Человеческому», то прославление понимается как видеть в слове образ славы. Такая мысль будет, конечно, соотноситься с самим объектом речи (референтность) о пшеничном зерне, оттеняя значение зерна как начало творения, умножения — и этим метафорически усиливается сам референт речи (метафорическое значение интенсифицируется). Однако происходит и другое. Данным контекстом (см. указанные семантические элементы возникновения самого речевого акта) слово получает семантизацию с точки зрения его изображающих черт. Они сводятся к тому, что осмысляется место слова в ряду переходов, воплощающих смену субъектов слова (елли-ны → Филипп → Андрей → Филипп и Андрей → Иисус). Осмысляется и функция слова в ходе чередования актов видения и речи (это мы называем семантическими переводами) (см.: прогрессирующая речь о том, что хотят видеть Иисуса → Иисус говорит образно/картинно → Иисус инициирует слово Бога → Он предсказываeт «картиной» своего вознесения с земли собственное воскресение (Ин. 12:32)).
Систематическое приведение характеристик слова в аспекте его изображающей функции, с одной стороны, не может создаваться без материи событийного действия. С другой, возможность семантизации слова в данном направлении (проблематика слова как изображающего, моделирующего, означающего) одновременно соотносится с его референтно-стью (план изображаемого, означаемого), так как постоянно повышается степень метафоричности. Доказательством этому может служить то, что, читая данное место евангельского текста, усиливается осознание: в притче о пшеничном зерне действительно говорится о Иисусовом слове (зерно: слово поучения, которое должно падать в землю сердца настоящих и потенциальных верующих). В то же время комплексное выражение безверия (см. весь событийный контекст стремления увидеть Иисуса как настоящего человека, посланника Бога) соотносит мотив видения / зрения с тем пониманием, которое означает приобретение веры. Именно в этот семантический пункт интегрируется отсылка к Книге пророка Исайи: «народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их» (Ин. 12:40)20. Все это цитируется в Евангелии таким образом, что слова Исайи ставятся именно в смысловое окружение славы, точнее, видения славы: «Сие сказал Исайя, когда видел славу Его и говорил о Нем» (Ин. 12:41)21. Это наглядно показывает, что мотив видения как родственный мотиву уразумения (см. особенно уразумение сердцем) составляет семантическую линию безверия и приобретения веры, рифмуясь с основным замыслом притчи о пшеничном зерне, которую Иисус рассказывает, потому что «столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него» (Ин. 12:37). Событийная мотивировка связывания притчи о пшеничном зерне и отсылки к Книге пророка Исайи, таким образом, действительно коренится в том мотиве видения, который неотрывен от действия, воплощаемого в жизненной истории Христа: он уже явил много чудес народу («пред ними», т. е. на его глазах «сотворив» эти чудеса), а толпа все же осталась скептичной. После сотворения чудес, послуживших доказательством для глаз, Иисус должен превратить их опять в слово, и в самом слове сохранить визуальное изображение.
На уровне микросюжета это также разыгрывается в описании торжественного входа Господня в Иерусалим, в процессе чередований (взаимных переводов) визуального и словесного опыта. Идя навстречу Иисусу, ему восклицают осанну, восхваляя (прославляя) его словами «благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:13), а когда видят его, сидящего на осле, «как написано» (Ин. 12:14), ученики все же не понимают в данный момент зрелище и те слова, которые помнит евангелист в форме отсылки к месту Книги Захарии, предрекающему данное событие ср. (Зах. 9:9): «се, Царь твой грядет» (Ин. 12:15). В то же время предсказывается для будущего, что «когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему» (Ин. 12:16). В рамках семантических переходов от видения к слову и обратно выделяется также идея чередования разнообразных форм появления слова, принадлежащих не только к разным временным пластам, но и к различным текстам. Здесь имеется ссылка на более поздний этап развертывания самого Евангелия и на одно из его претекстуальных мест в Книге пророка Захарии, а также на более ранний рассказ о чудотворении Иисуса, ведь «потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо» (Ин. 12:18) (см. в Ин. 12:1722 о свидетельствовании народом, бывшим «с Ним прежде», воскрешения Лазаря).
Следовательно, если, с одной стороны, мотив слово заложен в событийном мире, то, с другой стороны, можно утверждать, что приведение характерных черт, изображающих, означающих свойств слова (второй код из двойной кодировки мотива) выделяет само означаемое слов о (слово как значение со своим референтным содержанием, как вера, слава и т. д.). Однако мы отделили друг от друга два типа кодировки по той причине, что рядом с указанной функцией семантизации слова в перспективе его означающих / моделирующих свойств, выделяются такие его атрибуты, как посредническая функция слова между субъектами речи и его переводческая натура по ходу повторов. Эти аспекты несут информацию не только о том, чтó говорится словом (его референт), a семантизируют слово и в другом направлении: осмысляется мотив слово в контексте сюжетосложения и в перспективе построения текста в целом, а также в его метапоэтическом определении.
Библейская интертекстуальность как семантический и семиотический перевод: от пред-слова к пост-слову
Интертекстуальная связь тех частей Евангелия от Иоанна и Книги пророка Исайи, которые подробно подвергались изучению выше, раскрывают ход чередования двусторонних семиотических переводческих процессов осмысления видения и слова (см. создание визуальной модели речевой модели означивания внутри художественного текста). Такой ход обеспечивает динамику самого библейского дискурса, который все точнее и точнее объясняет семантическую природу своих мотивов и художественную логику их развертывания, доводя абстрактное смыслоопределение до понятия текста как художественного произведения. Мотивы дискурса получают последовательные переформулировки, а на самом высоком уровне семантической абстракции появляется понятие художественного текста Библии, к которому — с метапоэтической отвлеченностью — относятся те же мотивные варианты и атрибуты слова и славы в плане авторефлексивности.
Разные ходы микропереводов, как мы могли в этом убедиться, в то же время обращают внимание и на смены субъектов слова / речи (см., помимо прочего, такую разновидность семантической последовательности как ‛ Исайя → серафим → Бог → Исайя →…’, а в рамках интертекстуального продолжения внутри Библии: ‛ Иисус → Бог → Иисус →…’). Смены субъектности ставят в центр вопрос инициации и продолжения и проблему посредничества , а тем самым особенный акцент получает проблема субъекта творения, подводя к модели самотво-рения. Когда в изучаемом месте Евангелия при представлении собственной славы («пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12:23) — рамка для открытия притчи о пшеничном зерне) Иисус инициирует прославление Бога Им Самим (рамка закрытия притчи), а затем самопрославление Бога хранит в себе память о прошлом начале такого действия и его будущих повторах, то многократно кодируется вопрос первенства и посредничества . Слово Отца безусловно должно быть первым и первоначальным , однако, без посредничества Иисуса память о таком первенстве может легко потеряться. То же самое подчеркивается и в параллельном месте в Книге Исайи.
Как серафимы, так и сам Исайя, со своей активностью многократных переводов слова в другие представления в виде визуальной его модели, активно участвуют в творении памяти божественной сущности, а без такого посредничества Исайя не мог бы выполнить роль посланника Господа. Соотношение первого / первоначального / изначального слова и продолжения слова в форме вторичного его появления определяется во временном континууме постоянной реляционности пред-слова и пост-слова , в которой второе приобретает свой смысл лишь в рамках памяти . Память слова как память текста в контексте переводов разъясняет вторичное слово как слово интерпретации , которое обеспечивает новое толкование в новой форме , т. е. обновленную интерпретацию. Такие постоянные обновления предыдущих слов обеспечивают континуитет, вырисовывающий как путь Иисуса в Евангелии, так и процессы смыслопорождения в евангельском тексте, а также смысл перехода от Старого Завета к Новому Завету.
Список литературы Библейская интертекстуальность эпиграфа к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
- Баршт К. А. О внутренней «почве» Ф. М. Достоевского. К проблеме типологии персонажей писателя // Достоевский и современность. Материалы XXI Международных Старорусских чтений 2006 года. Великий Новгород, 2006. С. 22–34.
- Бондаревская О. А. Эпиграф как ключ к художественному толкованию романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ключевое слово «Зерно» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 4. С. 80–83.
- Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие // Евангелие Ф. М. Достоевского: в 3 т. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2017. Т. 2: Исследования. Материалы к комментарию. Сибирская тетрадь Достоевского / сост. В. Н. Захаров. С. 7–62.
- Кроо К. Еще раз о тайне гимна в романе «Братья Карамазовы». «Элевзинский праздник» — мистерия гимна // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб.: Серебряный век, 2004. № 20. С. 170–192.
- Кроо К. «От автора» к читателю «Братьев Карамазовых» Тайна, чудо и авторитет — герменевтическая перспектива в предисловии романа // SlavVaria. 2021. № 1. С. 65–75.
- Тихомиров Б. Н. Задачи и принципы комментирования библейских интертекстов Достоевского // Евангелие Ф. М. Достоевского: в 3 т. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2017. Т. 2: Исследования. Материалы к комментарию. Сибирская тетрадь Достоевского / сост. В. Н. Захаров. С. 787–938. (a)
- Тихомиров Б. Н. Отражения Евангельского Слова в текстах Достоевского. Материалы к комментарию // Евангелие Ф. М. Достоевского: в 3 т. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2017. Т. 2: Исследования. Материалы к комментарию. Сибирская тетрадь Достоевского / сост. В. Н. Захаров. С. 109–786. (b)
- Andrew J. For Men Only? Dostoevskii’s Patriarchal Vision in The Brothers Karamazov // Aspects of Dostoevskii: Art, Ethics and Faith / ed. by Reid R. and Andrew J. Amsterdam; New York: Rodopi, 2012. P. 187–240.
- Blank K. Text and Epigraph. “The Way of the Grain”: Teaching The Brothers Karamazov through the Novel’s Epigraph // Teaching Nineteenth-Century Russian Literature: Essays in Honour of Robert L. Belknap (Art Rossica) / ed. by D. Martinsen, C. Popkin, I. Reyfman. Boston: Academic Studies Press, 2014. P. 67–81.
- Cockerill G. L. The Epistle to the Hebrews. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2012. 792 p. (Series: The New International Commentary on the New Testament.)
- Connolly J. W. Dostoevskij’s Guide to Spiritual Epiphany in “The Brothers Karamazov” // Studies in East European Thought. 2007. Vol. 59. No. 1/2. P. 39–54. (Dostoevskij’s Significance for Philosophy and Theology.)
- Emerson C. Zosima’s “Mysterious Visitor”: Again Bakhtin on Dostoevsky, and Dostoevsky on Heaven and Hell // A New Word on The Brothers Karamazov / ed. by Jackson R. L. Evanston: Northwestern University Press, 2004. P. 155–179.
- Frye N. The Great Code: The Bible and the Literature. Toronto: Academic, 1982. 261 p.
- Frye N. Words with Power: Being a Second Study of the Bible and Literature. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1990. 342 p.
- Hatzfeld K. H. Sensual Holiness: The Paradoxical Collision of Forms in The Brothers Karamazov: a thesis submitted to the College of Liberal Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in English. Azusa, California, 2021.