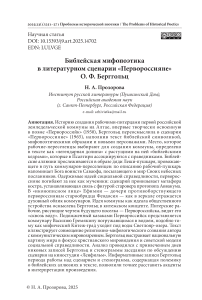Библейская мифопоэтика в литературном сценарии «Первороссияне» О. Ф. Берггольц
Автор: Прозорова Н.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Историю создания рабочими-питерцами первой российской земледельческой коммуны на Алтае, впервые творчески освоенную в поэме «Первороссийк» (1950), Берггольц переосмыслила в сценарии «Первороссияне» (1965), наполнив текст библейской символикой, мифопоэтическими образами и новыми персонажами. Место, которое рабочие-переселенцы выбирают для создания коммуны, определено в тексте как «легендарная долина» с растущими на ней «библейскими кедрами», которые в Псалтири ассоциируются с праведниками. Библейские аллюзии прослеживаются в образе дяди Леши-пушкаря, провожающего в путь коммунаров-переселенцев: по описанию рабочий-пушкарь напоминает Бога воинств Саваофа, посылающего в мир Своих небесных посланников. Одержимые идеей социальной справедливости, первороссияне погибают за нее как мученики: сценарий пронизывает метафора костра, устанавливающая связь с фигурой старовера протопопа Аввакума. В «иконописном лице» Ефимии - дочери противоборствующего первороссиянам старообрядца Феодосия - как в зеркале отражается духовный облик коммунаров. Идея коммуны как идеала общественного устройства осмыслена Берггольц в китежском концепте. Питерские рабочие, рисующие чертеж будущего поселка - Первороссийска, видят его «сквозь воду». Подожженный казаками Первороссийск представляется коммунару Василию Гремякину погружающимся в водоем, подобно тому как мифический Китеж-град уходит под воды Светлояр-озера. Текст иллюстрирует совмещение религиозно-мифологического сознания автора с коммунистическим мировоззрением. Берггольц выстраивает национальную картину мира в фокусе христианского мировидения и советской модели социальной справедливости. Анализ проводился с привлечением дневниковых записей Берггольц и стенограммы заседания по обсуждению сценария на киностудии «Ленфильм». Информативные записи Берггольц периода работы над сценарием и стенограмма, содержащая полемику о библейских аллюзиях в тексте, позволили точнее расставить акценты в интерпретации произведения.
О. ф. берггольц, литературный сценарий, первороссияне, поэтика заглавия, коммуна, поэтика пространства, библейский кедр, саваоф, ефимия, семантика имени, китежский концепт, аввакум
Короткий адрес: https://sciup.org/147247810
IDR: 147247810 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14702
Текст научной статьи Библейская мифопоэтика в литературном сценарии «Первороссияне» О. Ф. Берггольц
И сследование библейской символики и мифопоэтических образов особенно актуально при анализе русской литературы советской эпохи (см., например, работы: [Заваркина], [Мартьянова], [Спиридонова], [Габдуллина, Изранова]).
Творчество О. Ф. Берггольц в проекции этих проблем изучено лишь отчасти: исследованы библейский эпиграф к поэме «Твой путь» [Прозорова, 2022: 217–222], стихотворение «Отрывок» («Достигшей немого отчаянья…») с упоминанием иконы «Благое молчание» [Прозорова, 2023: 211–214], икониче-ский экфрасис в повести «Дневные звезды» [Прозорова, 2024: 191–193].
Литературный сценарий «Первороссияне» (1965) — последнее крупное прозаическое произведение О. Ф. Берггольц — представляет в этом отношении исключительный интерес. Однако филологический анализ данного художественного текста в контексте библейской символики до настоящего времени сделан не был.
Одноименный сценарию фильм был снят режиссерами-постановщиками А. Г. Ивановым и Е. Л. Шифферсом в 1967 г., в главной роли коммунара Василия Гремякина снялся Вл. За-манский.
Религиозный компонент фильма рассматривался в статье, посвященной экранизации «Первороссиян» [Зверева], но литературный сценарий как первооснова будущей картины не был принят во внимание. В связи с этим исследовательница ошибочно полагает, что фильм снят «по поэме "Перворос-сийск"» [Зверева: 406], и пишет, что кинолента «Первороссияне» — это «воспроизведенная средствами кино поэма, понимаемая исключительно в религиозно-мистериальном аспекте» [Зверева: 403].
Между тем поэма «Первороссийск» (1950)1 и литературный сценарий «Первороссияне» (1965)2 представляют собой два разножанровых художественных произведения — поэтическое и прозаическое, посвященные одной теме, но с разным ее творческим осмыслением. В сценарии, написанном через пятнадцать лет после поэмы, в другой общественно-политической ситуации, судьба первороссиян была актуализирована Берггольц иначе3. Там появились новые действующие лица и сцены, которых не было в поэме. Автор ввела в повествование немало библейских аллюзий и сделала отсылки к национальному символу — легендарному граду Китежу, создав тем самым в сценарии новую художественно-образную систему, принципиально отличную от поэмы «Первороссийк».
Литературный сценарий Берггольц был по-своему интерпретирован постановщиками фильма «Первороссияне». Сохранив общую концепцию темы, они значительно отклонились от исходного литературного текста и создали новый культурный артефакт — произведение киноискусства. В результате режиссерской разработки сценария в фильм не вошли многие картины из первоначального текста, ряд сцен был дан с иными смысловыми акцентами. В киноленте отсутствует китежский концепт и среди действующих лиц нет значимого персонажа сценария дяди Леши-пушкаря. Итак, образная система, присущая исключительно литературному сценарию Берггольц, заслуживает отдельного рассмотрения.
Кроме того, в этом последнем крупном прозаическом произведении, занимающем в творческой биографии поэтессы знаковое место, отразилась сложная мировоззренческая картина Берггольц 1960-х гг. В связи с этим исследование литературного сценария «Первороссияне» представляется давно назревшей проблемой.
К анализу текста был привлечен архивный материал — стенографический отчет заседания Художественного совета Второго творческого объединения киностудии «Ленфильм» по обсуждению сценария О. Ф. Берггольц, состоявшегося 27 сентября 1965 г. Стенограмма содержит полемику участников заседания, вызванную их неоднозначной реакцией на библейские отсылки в тексте.
Замысел и поэтика заглавия
В конце 1930-х гг. Берггольц была воодушевлена героикотрагической историей создания в 1918 г. на Алтае рабочими Обуховского сталелитейного завода Петрограда сельскохозяйственной коммуны — Первого российского общества землеробов-коммунаров (сокращенно — Первороссийск). Рабочие-питерцы, вдохновленные призывами В. И. Ленина к массовому походу в деревню (подробнее см.: [Дымшиц]), выехали из Петрограда по железной дороге в Казахстан, добрались до Семипалатинска, затем переместились вверх по р. Иртышу и обосновались на левом берегу р. Бухтармы. Здесь, сплачивая вокруг себя сельскую бедноту, рабочие-переселенцы вели пропагандистскую работу по устройству нового общественно-хозяйственного уклада и пытались воплотить его в жизнь. Занимаясь земледелием в условиях сопротивления местного населения и не успев снять первый урожай, в сентябре 1919 г. во время наступления Белой гвардии они были разгромлены, а коммунары-активисты — убиты (подробнее см.: [Из истории организации первых коммун]).
Интерес к истории первых коммун проявился у Берггольц в драматический период ее биографии — в 1938–1939 гг., когда она была репрессирована по «делу Авербаха» (1937–1938), а затем арестована по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности и находилась в тюрьме (13 декабря 1938 г. — 3 июля 1939 г.). Об этом свидетельствует ее дневниковая запись:
«Коммуна пришла ко мне как раз в эти годы — 38–39-е, когда коммунаров и меня — гнали, и мне как раз в эти годы, по этим же мотивам "зарезали" сценарий о Первороссийске» 4 .
Из этой же записи следует, что поэтесса уже тогда подавала заявку на сценарий, которая не была поддержана.
После окончания войны Берггольц вернулась к задуманной теме. Она реализовала замысел в виде поэмы «Первороссийск» и в марте 1951 г. была награждена за нее Государственной (Сталинской) премией третьей степени в области литературы и искусства.
Тему коммуны как идеала общества, основанного на коммунистических принципах, Берггольц начала переосмыслять сразу же после выхода поэмы5. В конце 1955 г., уже имея немалый опыт сценарной работы, поэтесса вернулась к мысли воплотить тему в жанре сценария. Работа растянулась на десятилетие; сценарий был закончен в 1965 г. и опубликован под названием «Первороссияне».
Переосмысление идеи коммуны прежде всего отразилось в изменении заглавия. Так, лексема «Первороссийск» — первоначальная номинация сценария, задуманного в конце 1930-х гг., и одноименной поэмы — вызывала в читательском восприятии устойчивую топонимическую ассоциацию с названиями городов (со сходной концовкой -ийск ; ср.: Новороссийск, Бийск, Уссурийск, Ханты-Мансийск и т. п.). В номинации присутствовал акцент на созданный человеком географический объект, с корневой морфемой ( росс- ) и кратким определением от лексемы «первый».
Заглавие «Первороссияне», которое в 1965 г. Берггольц дала сценарию, вызывало совсем иной спектр ассоциаций, не географического, а культурологического плана. В фонетическом образе слова слышалась отсылка к лексеме «первохристиане», частично совпадающей по звучанию с «первороссияне» ( перво-, -яне/ане ), содержащей то же количество слогов (6; с ударением на 5-м слоге), но с иной корневой морфемой. Теперь дешифровка номинации зависела от тезауруса языковой личности читателя, способного уловить (или не уловить) скрытую параллель одержимых идеей коммуны первороссиян с первохристианами-мучениками, создававшими первые христианские общины.
Но нет ли натяжки в подобной трактовке заглавия? Обратимся к тексту сценария.
Поэтика пространства
Место, которое питерские рабочие выбирают на Алтае для поселения и реализации своих планов, имеет символическое значение. Оно называется в тексте «легендарной долиной», «библейским былинным простором» с растущим здесь «библейски прекрасным» кедром6.
По сценарию сначала в описываемом месте, заснеженной долине, появляется группа ссыльных рабочих, только что получивших шифрованную телеграмму о том, что в Петрограде совершилась революция. Позднее здесь же, на алтайской равнине, но уже цветущей и благоухающей, трое обуховских рабочих во главе с активистом Мироном Клинковичем выбирают землю для Первого российского общества землеробов-коммунаров. «Люди смотрят и не могут надивиться красоте, обступившей их, — пишет Берггольц. — Стоят, как в церкви, с обнаженными головами» (Берггольц, 1988: 255). Питерские ходоки выбирают место для коммуны так, как выбирают место для строительства храма. Такое же намерение — найти для коммуны красивое место — выражает рабочий Василий Гре-мякин в сцене разговора с Лениным, который (по сценарию), хотя и одобрил почин коммунаров, но предложил строить коммуну поближе, «под Питером», где много свободной земли:
« Не знаю, может быть, это не научно, — возразил ему Гремя-кин, — но первую коммуну надо строить там, где очень красиво!» ( Берггольц, 1988 : 264) 7 .
В сценарии несколько раз упоминается растущее в долине «библейское дерево» — «гигантский библейский кедр» ( Берггольц, 1988 : 249, 255, 302, 306). Отметим, что Берггольц акцентирует внимание не на ботаническом названии растения8, а на его символическом значении: библейское дерево — ливанский кедр, который ассоциирован в Псалтири с праведным человеком ( «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане» (Пс. 91:13) ) , непоколебимым в своих убеждениях.
Но как соотносятся в сценарии Берггольц кедр и праведники с рабочими-коммунарами?
Коммунары-мученики
Рассказывая о реальных питерских рабочих, «ходоках за землей», Берггольц подчеркивает их «почти плакатный», «в потертых кожанках» облик. Но одновременно она уходит от профанного бытия и рисует иллюзорную картину местоположения героев, вознося их — «солдат Революции» — куда-то в заоблачные высоты. «Они стоят очень городские, чуждые этому библейскому былинному простору <…>, — пишет автор. — И облака идут под их ногами. Кажется порой, что они стоят на облаках в заоблачной легендарной долине, как древние боги». Заметим, что рабочие при этом «говорят негромко, как в церкви» (Берггольц, 1988: 255). Показательно и то, что библейский кедр, встретивший рабочих при их первом появлении в долине, после разгрома коммуны склоняет над погибшими свои могучие ветви, провожая их в последний путь:
«На той самой поляне с библейским кедром <…> опустили в землю гробы с прахом застреленных казаками первороссиян» ( Берггольц, 1988 : 306) 9 .
В этом контексте «легендарная долина» с попавшими в нее коммунарами может быть истолкована как место духовных испытаний, преображения и роста. Неслучайно персонаж сценария — священник Иоанн Богоявленский, отрекшийся от сана и «чистосердечно» пришедший в коммуну, — называет одержимых идеей социальной справедливости первороссиян «взыскующими града», на что ему отвечают: «Ноев ковчег у вас, а не коммуна» ( Берггольц, 1988 : 258)10. Так метафора «легендарной долины» расширяет свое значение до места убежища праведников (коммуна — Ноев ковчег).
Обращает на себя внимание еще одна сцена. Едущие на поезде питерские рабочие сталкиваются с почти непреодолимым препятствием: поезд после сильного толчка резко останавливается и вдруг выясняется, что впереди путей нет, их разобрали бандиты. После недолгой перепалки с теми, кто не смог верно «осознать текущий момент», рабочие выходят из вагонов и, вооружившись инструментом, начинают вбивать горбыли и класть на шпалы рельсы, «одержимые идеей почти до надменности» ( Берггольц, 1988 : 280). Сцена иллюстрирует яростную убежденность первороссиян в правильности выбранного решения и содержит скрытую библейскую аллюзию — «Путь праведника прям» (Ис. 26:7)11.
Праведность первороссиян, как в зеркале, отражается в об разе молодой, с лицом «иконописной древнерусской красоты»
девушки Ефимии — дочери старообрядца Феодосия, в доме которого собираются казаки, готовящие расправу над коммуной. Красавица Ефимия, влюбленная в молодого коммунара Алешу, в момент опасности, грозящей первороссиянам, убежала из дома отца и успела предупредить юношу о беде перед самым нападением казаков:
«Охватив Алешу первым и последним объятием, выпрямилась Ефимия — кержачка, китежанка и первороссиянка уже» ( Берггольц, 1988 : 305) 12 .
Избранность девушки подчеркнута не только ее «иконописным ликом», но и антропонимом как «структурообразующим компонентом персонажа» [Веселова: 31]. Семантикой литературного имени Ефимия ( греч. Eufimia — благочестивая) автор определила земной путь героини. Со всей очевидностью можно сказать, что это редкое в XX в. имя было известно Берггольц еще с детских лет: она праздновала свои именины 24 июля в день памяти равноапостольной вел. кн. Ольги13. В этот же день православная церковь вспоминает чудо раннехристианской великомученицы Евфимии Всехвальной14.
Насыщенность текста литературного сценария «Первороссияне» библейскими реминисценциями, а главное — изображение героев революции как мучеников, принимающих смерть за идею, вызвали озабоченность у чиновников от литературы и кино. 27 сентября 1965 г. сценарий Берггольц обсуждался на заседании Художественного совета Второго творческого объединения киностудии «Ленфильм» (стенограмма сохранилась в архиве О. Берггольц15).
Выступавшие на обсуждении критики, литературоведы и артисты, в целом заинтересованно принявшие сценарий, были обеспокоены тем, что зритель не будет готов к «жертвенной смерти» героев. Литературовед М. А. Гуковский не понимал, почему герои фильма, когда встречаются лицом к лицу с врагом, оказываются безоружными. «Враг на них нападает, — говорил Гуковский, — а оружия у них нет. <…> Ну пусть бы они погибли с оружием в руках, а они гибнут, как апостол Петр, — головой вниз16. Почему они все оружие роздали, а себе ничего не оставили? <…> Есть ведь зритель <…>, он привык к тому, что люди борются, а эти красиво мученически умирают за идею. За идею (надо. — Н. П.) бороться, а не просто умирать»17. С Гуковским был солидарен киносценарист Б. Ф. Чирсков, в том же ключе выступал критик Д. М. Молдавский. Ф. А. Абрамов, назвавший сценарий «большим праздником» в литературе, не менее определенно высказал свое впечатление о героях: «У Вас мученики показаны, они не борются»18.
Однако Берггольц добивалась именно такого воздействия на читателя и зрителя. Примечательно, что в сценарий, начавшийся с картины Вечного огня на Марсовом поле и возникающих на гранитной плите имен действующих лиц будущего фильма, была включена сцена похорон жертв революции на том же памятном поле, где в процессии участвовал Василий Гремякин с другими рабочими. После похорон, стоя на набережной Невы, он заявил о своей мечте построить на Алтае первую коммуну и, подняв руку к Марсову полю, принял от жертв революции как эстафету «нечто огромное или драгоценное» ( Берггольц, 1988 : 254), тем самым включив себя и своих товарищей в ряды тех, кто был готов к самопожертвованию.
Ответ Берггольц на критику участников собрания был следующим: «О "мучениках". Я обнаружила, что многие забыли о том, какой была эта эпоха. Вопрос жертвенности тогда так не стоял, слово это не было тогда ругательным, самопожертвование не было одиозным, оно стало таким только в период сталинщины. <…> …стрелять в вооруженных казаков было бессмысленно, ведь в коммуне было 9/10 женщин и стариков, это был бы акт самоубийства»19.
Тему о мучениках Берггольц закольцевала в своей речи на заседании отсылкой к личности протопопа Аввакума Петрова — фанатичного хранителя старой веры, сожженного в Пустозерске на костре вместе с другими старообрядцами за противостояние церковным реформам патриарха Никона. Проводя параллель с несломившимися первороссиянами, она сказала: «Для меня важна аввакумская твердость духа. <…> Это был человек, который стоял за твердость слова и духа»20 .
Идея коммуны и китежский концепт
Идея коммуны в творческом сознании Берггольц соотносилась с мифическим образом Китеж-града (о бытовании китежской легенды см.: [Криничная]). Эта аналогия была введена автором уже в одной из первых сцен, в которой коммунары, склонившись над чертежом будущего Первороссий-ска, пытались представить себе его абрис. Он казался им непохожим на современный поселок/город, в нем отчетливо улавливались национальные черты городов, изображенных в древнерусских сказках, на иконах и лубках. При этом коммунары — на мгновение — увидели поселок «Первороссийск», «как в каком-то водоеме, как сквозь воду» ( Берггольц, 1988 : 261), и это была важная, говорящая деталь повествования. В другой сцене, во время прощания коммунаров с подожженным казаками пылающим поселком, Василий Гремякин, обернувшись назад, тоже увидел, что, «точно град Китеж в Светлояр-озеро, погружался в некий водоем Первороссийк» ( Берггольц, 1988 : 296). (Эти концептуально значимые для Берггольц сцены в фильм «Первороссияне» не вошли.)
Предчувствие того, что идея коммуны не будет воплощена в реальности, было маркировано в литературном сценарии несколько раз. Работая над произведением с установкой первороссияне-китежане, поэтесса вложила ноту сомнения в успехе предприятия в обращенную к рабочим-переселенцам речь Ленина:
«А вот построим ли мы с вами наш Первороссийск, — такую коммуну, как вы задумали… <…> Гм… гм… сейчас, вот именно сейчас, — навряд ли, товарищи, навряд ли…» ( Берггольц, 1988 : 266).
Показательна в этом отношении и сцена проводов обуховских рабочих на Алтай на вокзале. Старый рабочий-пушкарь дядя Леша провидческим взглядом долго смотрит вслед ушедшему поезду, и, «может быть, только он-то и знает, что задуманная коммуна не сбудется» ( Берггольц, 1988 : 274). Откуда такое предвидение? Рисуя облик пушкаря — с величественной бородой и кудрями, автор неоднократно подчеркивает его сходство с Богом Саваофом ( Берггольц, 1988 : 251, 268, 273, 290, 307). Прибегая к библейской аллюзии (Саваоф — «Бог воинств», повелитель «небесных сил»), Берггольц расширяет метафору: прощальный взгляд дяди Леши-пушкаря как бы направлен на уезжающих в неведомую даль Божиих посланни-ков21. Эту отсылку подметил и, не вдаваясь в детали, попытался по-своему донести до участников заседания на «Ленфильме» режиссер М. И. Ершов: «Люди, о которых написан сценарий, это люди святые в хорошем смысле этого слова. Не случайно Ольга Федоровна образ одного рабочего дала — Саваофа»22.
Нельзя обойти вниманием и картину первой ночи коммунаров, разбивших лагерь в долине среди библейских кедров. Бодрствующие в предрассветной тишине Василий Гремякин и его жена Люба представляют себе пейзаж будущего: им привиделись поселок, плотина и Бухтарминское море, затопившее первую петроградскую коммуну ( Берггольц, 1988 : 288)23.
Помимо мифопоэтической аллюзии (коммуна ушла на дно), сценарий содержит сцены, связанные с реальным затоплением территорий первых петроградских коммун Бухтарминским водохранилищем (морем) после окончания строительства плотины Бухт арминской ГЭС на р. Иртыше в начале 1960-х гг.
Окруженное горами море рисуется в последней сцене сценария: теперь этот лунный пейзаж видят плывущие на катере сын Василия и Любы Гремякиных Петр и его молодая жена. Петр уверяет жену, что строители Бухтарминской плотины не уничтожили Первороссийск, а «дали ему новое, иное бытие» ( Берггольц, 1988 : 309). Сцена заканчивается в патетическом ключе: песню первороссиян, слышимую «как будто бы из глубины воды» ( Берггольц, 1988 : 310), подхватывает молодежь, и мелодия разносится над затопленным урочищем Первого российского общества землеробов-коммунаров24. Так вновь в сценарии репрезентуется легенда о невидимом, но живом Китеж-граде, который благовестит из глубины Светлояра.
Мифопоэтическая традиция в образе коммуны отчетливо прочитывалась, что вызвало резкое неприятие у участников обсуждения сценария на «Ленфильме». Они уловили в китежском концепте коммуны искажение «исторического духа мечты» и «трагическую обреченность». Борис Чирсков говорил: «Я возражаю внутренне против образа Китежа, в котором утонула мечта»25. (Постановщики фильма «Первороссияне» полностью отказались от китежской символики.)
Практически все выступавшие говорили о трудности перевода лирико-патетических картин сценария в кинематографический формат. Так, Ф. Абрамов, размышляя о переводе авторской идеи на язык кино, сказал: «Язык должен быть очень строгим — черно-белым»26. Берггольц, поддержавшая разговор о стилистике будущего фильма, предложила свое эстетическое видение: «Гравюра Доре»27. Эта отсылка к знаменитому французскому иллюстратору Библии — Гюставу Доре — показывает, что автор повествования представляла своих героев не только в виде «плакатных» портретов революционных лет, но и как людей, достойных изображения на иконах, фресках и гравюрах, т. е. вне времени и пространства. Неслучайно, когда Гремякин с женой «заглядывают» в далекое, светлое, но непонятное будущее, и Люба спрашивает, сколько же им будет тогда лет, Василий отвечает: «А столько, сколько сейчас» (Берггольц, 1988: 288)28. Что означает подобное заявление? Автор «вбрасывает в будущее» своих героев такими, какие они есть сейчас: их одержимая преданность идее коммуны стирает границу между настоящим и будущим, мечтой и реальностью. В этой связи уместно вспомнить начало сценария, в котором Берггольц, цитируя поэму «Перворос-сийк», определяет время (и дело) первороссиян метафорой полдень Родины (Берггольц, 1988: 248), и привести строки, устанавливающие связь со сценой заглядывающих в грядущее завтра Василия и Любы Гремякиных:
«И первым в Будущее брошен, И жизнью вымощен живой, — Он никогда не станет п р о ш л ы м , Твой трудный путь, твой огневой» ( Берггольц, 1988 : 249).
Однако в противовес возвышенно-патетическому финалу сценария с лунным пейзажем Бухтарминского моря тональность рабочих записей Берггольц периода работы над «Первороссиянами» была иной.
Начав с отправной точки — истории первой алтайской коммуны, она пришла к пониманию трагедии своего поколения: коммунары — «это те, кто еще верит в Коммуну и полагает, что строит ее» ( Берггольц, 2000 : 291). Размышляя о судьбе выживших алтайских коммунаров, которые в конце 1930-х гг. подвергались репрессиям, Берггольц метафорически выразила в дневниковых записях свое понимание трансформации революционной идеи — идеи коммуны. Под впечатлением от впервые запущенного на космическую орбиту 4 октября 1957 г. искусственного спутника Земли Берггольц провела неожиданную параллель между революцией и рукотворной «звездой»-спутником. Она писала:
«…вокруг Земли с бешеной скоростью мчалась звезда, созданная человеком, и вслед за ней ее скорлупа, — земной послед. Кажется, что так долго будет мчаться за новорожденной звездой ее "место", — не было предвидено. Так же не предвидели, что вслед за Революцией помчится ее "место", настигнет ее и, обволокнув разлагающейся массой своей, превратит эту звезду в какое-то жуткое новообразование…»29.
Так в эстетике Берггольц революция — «новорожденная звезда», застигнутая «земным последом», становится «мертворожденной». При этом писать о коммуне как о «мертворожденной звезде» Берггольц не решилась. Она убеждала себя подойти к теме иначе: «писать о ней (коммуне. — Н. П. ) не как о покойнице, — как о граде Китеже, живом, но ушедшем на дно…»30 .
Берггольц рассматривала утрату идеи коммуны в категории национальной идентичности и видела корень зла в разрушении русского характера, в основе которого лежали открытость, доверие друг к другу, склонность к самопожертвованию и общинности (коллективизм), стремление к справедливости. После встречи в августе 1960 г. с М. И. Гавриловым — в первороссийской коммуне он был подростком — Берггольц записала в дневнике его мысли (полностью совпадавшие с ее собственными): «На русском характере Первороссийск взошел…» ( Берггольц, 2000 : 247). Но русский характер стал разрушаться в «ежовско-бериевские времена» и потому: « Ушел дух коммуны » ( Берггольц, 2000 : 248; подчеркивание Берггольц. — Н. П .).
Национальную идентичность Берггольц осознавала через образ неистового протопопа Аввакума. «Аввакумовское — русское», — утверждала она (Берггольц, 2000: 252). Действие в сценарии «Первороссияне» разворачивается в локусе расселения бухтарминских старообрядцев (см.: [Бломквист, Грин-кова]), в среде, где культ раскольника-протопопа был особенно силен. При этом кержачий русский характер, в равной степени свойственный как переселенцам-староверам, так и переселенцам-первороссиянам, был передан в сценарии через метафору костра — огня революции и пламени истинной веры31. Столкнулись — по Берггольц — две России, «и победить должна только одна из двух аввакумовских, кержацких Россий — ленинская Россия» (Берггольц, 1988: 285).
Однако в 1960-е гг. поэтесса видела революционную мечту исключительно сквозь призму «затопленной коммуны» и с горечью констатировала:
«…Над затонувшими затопленными коммунами, над градом Китежем идем. <…> …И не было ни духа, ни остова Коммуны, — не слышно было благовеста, — да, она была опущена на совершенно неподвижную глубину. Нынешний январский Пленум ЦК (янв. 61 г.) ужасающе подтверждает это. Липа, показуха, ложь, — все это привело Коммуну к теперешнему ее состоянию. Ложь разрушила ее изнутри. Ложь была противопоказана народу-правдоискателю» ( Берггольц, 2000 : 291).
Таким образом, анализ поэтики литературного сценария «Первороссияне» показал, что присущее Берггольц религиозно-мифологическое сознание непротиворечиво совмещалось с коммунистическим мировоззрением. В своем последнем крупном прозаическом произведении она выстроила национальную картину мира в проекции христианского мировиде-ния и с опорой на советскую модель социальной справедливости. «Лучший тип коммуниста, — писал Бердяев, — т. е. человека целиком захваченного служением идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского воспитания человеческих душ…» [Бердяев: 138].
Библейская символика литературного сценария «Первороссияне» является ключом к интерпретации творческого замысла О. Ф. Берггольц и исследована в категориях поэтики заглавия (фонетическое сопряжение названия «Первороссияне» с лексемой «первохристиане»), семантики имен персонажей (Ефимия/ великомученица Евфимия Всехвальная; дядя Леша-пушкарь/ Саваоф), поэтики пространства (библейский кедр, легендарная долина) и др. Сценарий насыщен мифопоэтическими образами: идея коммуны представлена О. Ф. Берггольц в китежском концепте.