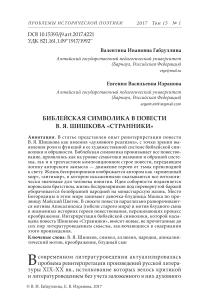Библейская символика в повести В. Я. Шишкова "Странники"
Автор: Габдуллина Валентина Ивановна, Изранова Евгения Васильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен опыт реинтерпретации повести В. Я. Шишкова как явления «духовного реализма», с точки зрения выявления роли и функций в ее художественной системе библейской символики и образности. Библейская символика пронизывает все повествование, проявляясь как на уровне семантики названия и образной системы, так и в трехчастном композиционном строе повести, передающем логику авторского замысла - движение героев от тьмы преисподней к свету. Жизнь беспризорников изображается автором как «кромешный мир», «антимир», в котором искаженными оказываются все онтологически значимые для человека понятия. Идея соборности подменяется воровским братством, жизнь беспризорников под перевернутой баржей оборачивается безобразной пародией на монастырскую жизнь. Место Богородицы в этом мире занимает девочка-блудница Машка по прозвищу Майский Цветок. В сюжете повести параллельно разворачиваются мотивы Апокалипсиса (гибели старого мира) и мотив блудного сына в жизненных историях героев повествования, переживающих процесс преображения. Интерпретация библейской символики, которой насыщена повесть Шишкова «Странники», вносит новые, не прочитанные до сих пор литературоведением смыслы, заключающиеся в содержании этого произведения.
В. я. шишков, символ, аллюзия, пародия, апокалиптический мотив, преображение, блудный сын
Короткий адрес: https://sciup.org/14749005
IDR: 14749005 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4221
Текст научной статьи Библейская символика в повести В. Я. Шишкова "Странники"
В современном литературоведении актуализировалась проблема реинтерпретации произведений русской литературы XIX–XX вв., истолкование которых велось критикой и литературоведением без учета заложенного в них духовного содержания. Нового прочтения с позиций аксиологического подхода требуют произведения В. Я. Шишкова как писателя, опирающегося на классическую традицию русской литературы, тесно связанную с христианским мировидением. В конце XX — начале XXI вв. наметился поворот в оценке творчества Шишкова в координатах направления «духовного реализма» в русской литературе1. Как отмечается в работе В. А. Редькина, «Шишков — художник, творчество которого невозможно рассматривать вне его поиска истины в нравственном, онтологическом и философском планах» [8, 37].
Обратившись в повести «Странники» (1930) к одной из самых острых и больных проблем послереволюционного советского времени — к теме беспризорничества, — Шишков вводит ее в контекст христианских представлений о мире и человеке. Используя в повествовании библейскую символику и возводя образы своих героев к евангельским архетипам, писатель вскрывает не только социальные, но и духовные корни изображаемого явления.
В советской критике повесть «Странники» рассматривалась в ряду других произведений о перевоспитании, таких как «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Республика Шкид» Л. Пантелеева и Г. Белых. Так, Н. Х. Еселев утверждал, что Шишков своим произведением помогает государству решить важную социальную проблему — «вырастить из них (беспризорников) сознательных советских граждан» [3, 122]2.
Однако есть все основания утверждать, что содержание повести Шишкова не исчерпывается социальной проблематикой. «Во всяком произведении должна быть оплодотворяющая идея, — подчеркивал писатель, — чтобы произведение вознеслось над повседневностью, над быстротечным временем и, опережая жизнь, утратило характер, хотя, может быть, и художественного, но простого пересказа факта» [11, 18]. Автор рассматривает беспризорничество как духовно-нравственное явление, имеющее онтологические корни. Как указано в литературоведении, повесть выросла из рассказа о беспризорниках под названием «Преисподняя» [9, 17], что свидетельствует об изначальной интерпретации автором изображаемого социального явления в контексте христианской символики. Отказавшись от замысла, тяготеющего к физиологическому очерку нравов, писатель обратился к разработке сюжета, основанного на идее нравственного воскресения и перерождения личности, что повлекло за собой не только смену названия, но и изменение всего жанрово-композиционного строя произведения.
Само название повести симптоматично. Понятия странник и странничество восходят к Библии, где под странниками подразумеваются все люди на земле. Так, в Библии читаем:
Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои (Пс. 38:13).
…потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного (1 Пар. 29:15).
Мотив странничества пронизывает русскую литературу от самых ее истоков, начиная с житий святых и хожений. Н. А. Бердяев писал, что «величие русского народа и призван-ность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника»:
Странник — самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю <…>. Странник свободен от «мира», и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах [1, 31].
В первой же главе повести появляется классический образ странствующего слепого — дедушки Нефеда, зарабатывающего себе на хлеб пением стихир и псалмов. Этот образ отсылает к былинным каликам перехожим. Однако тема странничества приобретает в повести новое звучание после знакомства с ватагой беспризорников, к которым прибился и дед Нефед вслед за своим поводырем — мальчишкой-сиротой Филькой. Ключевым местом для понимания идеи, отразившейся в названии повести, становится сцена похорон беспризорника Спирьки по прозвищу Полторы-ноги, на могиле которого устанавливают украденный с кладбища памятник с высеченной надписью: «Здесь покоится прах первой гильдии купца Спиридона Ивановича Странникова». По этому поводу автор замечает:
Странников? Ну, уж это вернее верного: кто же из их шатии, из перелетных птиц, не странник?3
Мир, в котором живут беспризорники, изображен Шишковым в традициях древнерусской пародии как антимир4. С самого начала в текст вводится символический образ перевернутой баржи, под которой живут беспризорники, как знак перевернутости мира. Маленькая девочка-сирота рассказывает, как она попала в этот приют под баржей:
…Я на пароходе приплыла. <…> А пароход ушел. Меня не досчитались, я маленькая потому что. Как ушел пароход, я пошла в город, в церковь. А тут баржа, гляжу. Ну, меня и пустили (39). Эта история наводит на смысл образа баржи (корабля), отсылающий к Библии, в которой Церковь уподобляется кораблю, «в котором верующий находил безопасность и обретал спасение» [10, 305]. На сходство баржи с церковью указывает такая деталь в ее описании: «…по продольной оси баржи была натянута в вышине проволока, на ней укреплены зажженные свечи» (15), а также то, что на барже «была укреплена высокая мачта» (20), которая на корабле «обычно имеет форму креста» [4, 305]. Однако девочка-сирота, ищущая защиты, попадает вместо Церкви под перевернутую баржу — таким образом в тексте указывается на некую подмену: баржа — это перевернутая Церковь.
Баржа ассоциируется также с Ноевым ковчегом — кораблем, предназначенным для спасения людского рода. Но, в отличие от Ноева ковчега, перевернутая баржа становится прибежищем не для праведников, а для беспризорников, нищих, воров, бродяг. Перевернутая баржа в повести неоднократно называется содомом , дьявольской баржей , непотребным местом . В образе перевернутой баржи, под которой живут беспризорники, в царящем под ее кровом быте угадывается пародия на монастырь. Баржа недаром перевернута. Под ней — перевернутая вселенная, т. е. кромешный вывернутый наизнанку мир. Это замечает дед Нефед, пытающийся увести из-под перевернутой баржи своего поводыря Фильку:
…Нет здесь. Филька, божьего сугреву. Здесь собаке-то стыдне-хонько жить, не токмо что человеку. Холодно здесь душе человеческой… (167).
Если в монастырь приходят те, кто по своей воле принял решение отказаться от мира и посвятить себя служению Богу, то под баржу попадают те, от кого отказался мир, — беспризорные дети («Топить их, сукиных котов, и больше никаких. В мешок да в воду, в мешок да в воду!» — предлагает пенсионер Антипов на собрании по вопросу беспризорников (189)). И, подобно тому, как послушники, поступающие в монастырь, отказываются от своего мирского имени и мирских одежд, получая новое имя и новое облачение, беспризорники под баржей получают прозвища и облачаются в лохмотья, в которых ходит вся эта «богоотверженная шпана» (116):
Филька, разутый и голый, сидел в углу на сене. Карась бросил ему мерзлое отрепье, а сапоги с рубахой забрал (106).
При первом же знакомстве с беспризорниками, Филька получает прозвище — Филька-поводырь. Так же, как в монастыре творится непрерывная молитва, под баржей слышится «антимолитва»:
Под баржей стояли неимоверный гвалт и перебранка. Все говорили повышенными, крикливыми голосами, все отборно ругались, даже малыши (107).
Верховодит в этой стае беспризорных вожак по прозвищу Амелька Схимник, носивший на голове позеленевшую от времени монашескую скуфейку, которую монахи надевали как знак отречения от мира и всего мирского (еще один знак-перевертыш).
В каждом монастыре существует своя главная святыня, часто это чудотворная икона с образом Богородицы. Место такой «святыни» под перевернутой баржей занимает тринадцатилетняя девушка Маша (Мария) по прозвищу Майский Цветок и ее новорожденный младенец. Амелька поясняет:
…А звать ее Машка, Майский же Цветок — прозвище, в честь нового быта (110).
Ассоциации с Богородицей возникают с момента появления Маши и ее младенца в тексте:
…дощатые нары, на нарах — прикрытая ветошью солома, на соломе — маленькая женщина; она кормила грудью ребенка. <…>
Она показалась Фильке подростком, с желтым худощавым лицом, — правда, приятным и ласковым. Хороши задумчивые темные глаза ее: в них была и непонятная скорбь, и что-то детское, обиженное… (109).
Пародией на эпизод из Библии о дарах волхвов Богоматери выглядит сцена подношения подарков младенцу:
— Вот тебе, Майский Цветок, сиська резиновая для парнишки, вот сливы, вот пряники. А это вот конь ему.
— Спасибо, — ответила женщина. — Спасибо. Вон, на ящике, видишь; мне много натащили всего (108).
Наиболее же отчетливо Майский Цветок в образе Богородицы предстает в рассказе маленького Инженера Вошкина о Крыме, который в его представлении — что-то вроде Рая. Символично, что перед явлением Майского Цветка мир в рассказе беспризорника окрашивается в синий цвет:
…И все — синее, во какое синее, просто страсть! Море — синее, чайки — синие, дома — синие, люди — синие (196).
В христианской символике «синий цвет, означающий чистоту и целомудрие, также является атрибутом Богородицы, символом Ее приснодевства» [7]. Таким образом, фантазия Инженера Вошкина имеет символическое значение, связанное с идеальным ореолом восприятия Майского Цветка мальчишкой-беспризорником. Однако действие повести происходит в «изнаночном мире», в «антимире», в котором все ненастоящее, поэтому на месте Богородицы оказывается блудница.
Когда Филька поет для Маши стихиру, «девчонка-мать мечтательно уставилась в брезентовый потолок своей кельи; весь смысл Филькиной песни она, должно быть, вобрала себе в грудь, и выросла в ее груди большая радость» (108). В этом эпизоде возникает ассоциация с известной молитвой к Богородице «Богородице Дево, радуйся». Прозвище Маши — Майский Цветок — отсылает к иконографическому образу Божьей Матери «Неувядаемый цвет». Изображенная на этой иконе Богородица держит на одной руке своего Божественного Сына, а в другой руке — цветок белой лилии, символизирующий непорочность Пречистой Девы.
Вместе с тем запечатленный автором момент духовного просветления девочки-блудницы воспринимается как аллюзия на известную картину художника Тициано Вечеллио «Кающаяся Мария Магдалина», взгляд героини которой, обращенный к небесам, выражает мольбу к Богу о прощении. В тексте повести Шишкова эпизод покаяния только намечен и явно снижен замечанием автора: «…девчонка-мать мечтательно уставилась в брезентовый потолок своей кельи» (108).
Более того, девочка-блудница ассоциируется в тексте повести с Вавилонской блудницей из Откровения Иоанна Богослова:
На ее голове и на плечах — красная, по-цыгански повязанная шаль, в ушах — большие серьги обручами, на руках — дешевенькие кольца и браслеты. Напудренная, нарумяненная, с горящими черными глазами, она стояла, как владычица, важно и надменно окидывая гордым взглядом свое преисподнее царство, и, видимо, требовала внимания к себе (25).
Ср.: «…увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом» (Откр. 17:3‒4).
Образ Вавилонской блудницы вводит в повесть апокалиптический мотив конца света, который затем усиливается в сне девочки:
…она режет беленьких барашков, вот и режет, и режет, по ножу — кровь, по рукам — кровь, баржа вдруг перевернулась и всплыла в крови (169).
Сон оказался пророческим, юная мать становится жертвой убийства; глава одиннадцатая носит название «Майский Цветок отцвел». Кровавый потоп принес конец этому безобразному миру малолетних воров, пьяниц и убийц под баржей:
Убийство Майского Цветка, словно внезапный ураган, опрокинуло баржу, расшвыряло, унесло по ветру все щепки, все гнилушки праздной жизни (172).
Как гласит легенда о потопе в Ветхом Завете:
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время <…>. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть (Быт. 6:5, 6:17).
Апокалиптические мотивы продолжаются во сне Амельки в конце третьей части. Глава девятнадцатая так и называется «Огненная ночь». Мотивы огня, дыма наполняют Откровение Иоанна Богослова:
…и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя (Откр. 9:2).
Характерно, что глава начинается со споров о происхождении человека: прав ли Дарвин, или же человек был сотворен по образу и подобию Божию. В этой главе появляется эпизодический персонаж — сторож Федотыч. В споре он поучает про-дарвинистскую молодежь: «Человек был создан, ребята, сотворен. <…> в святых книгах сказано» (536). На реплику ребят: «Так и это в книгах!» — он отвечает: «Ваши книги, ребята, от ума, а те от духа» (536). В момент спора они замечают, что горит мастерская. Когда потушили пожар, «…ребята вспомнили, что Федотыч первый бросился в разбитую дверь сгоревшей мастерской. Но что с ним сталось — никто не знал» (536).
Постепенно в тексте повести все большая роль отводится категории персонажей, которых можно отнести к типу пра-ведников5. Помимо деда Нефеда и сторожа Федотыча, к нему принадлежит Григорий Дизинтёр, прозванный так, потому что он дезертировал, «сбежал с гражданской войны от деникинцев, да так и путается» (111). «Ну не лежит мое сердце воевать. Ни в красных, ни в белых», — говорит Дизинтёр (115). С самого начала своего появления в тексте повести он заботится об окружающих: вот он принес и разрезал арбуз, чтобы положить мучающемуся в лихорадке Спирьке на голову, вот помогает купать грудного младенца, незлобиво выговаривая малолетней матери:
— А тебя, девчонка, в три кнута надо бы пороть: не допускай пакости со всяким. Ты сучонка или человек? (147).
Автор подчеркивает крепкую веру Дизинтёра, которую ничто не смогло пошатнуть: на похороны Спирьки, несмотря на желание всех хоронить его по-граждански, Дизинтёр позвал священника. Там он молится, причем его примеру следуют и беспризорники. В ответ на предложение отказаться от своей веры ради того, чтобы получить в жены полюбившуюся ему Катерину, Дизинтёр отвечает: «Что же вера? Я не цыган, чтобы менять. Была бы любовь да согласие» (304). Своему хозяину, сектанту-беспоповцу, Дизинтёр заявляет: «Кто без попов, без священников живет, тот в ад идет» (310). Жизненные ценности Дизинтёра отражаются не только в его поступках, но и в словах:
На богатство я плюю! Быть бы сыту да душу сберегчи. <…> В злобе нет спасения, добром надо. Против злобы — ласку, огонь водой туши (305).
Дизинтёр погибает мученической смертью: ослепший, полуобгоревший, он умер в муках, спасши из пожара Амель-ку, по евангельской заповеди: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Образ праведника становится знаком того, что изображенный в повести мир не безнадежен, он должен устоять и обновиться.
Далее последняя битва между светлым и темным, добром и злом переместилась из реального мира в пространство амелькиной души. Глава двадцатая называется «Реальность бреда и призрачная явь». В бреду обгоревший Амелька снова оказывается на барже, сон Майского Цветка из первой части продолжается6:
Баржа их перевернулась вниз брюхом и плывет: Майский Цветок усаживается с ребенком, огненные голуби кружатся возле нее (541).
В книге Бытия голуби принесли Ною весть о том, что воды спали. Здесь же голуби огненные. Автор соединяет ветхозаветное предание о Потопе и Откровение Иоанна Богослова в одну апокалиптическую историю. В этом бреду на Амельку мчатся «миллионы сверкающих пчел, воспламеняя всю вселенную <…>. Амельке нечем крикнуть: черный козел заткнул его рот рогами» (542). Здесь же появляется бандит Иван
Не-спи на черном коне, олицетворяющий, по-видимому, всадника Апокалипсиса. В образе ангела появляется Дизинтёр, который, «взмахивая крыльями, заливает пламя» (542).
Амелька в страхе открывает глаза и спрашивает тьму: — Это рефлекс?
— Рефлекс, — отвечает товарищ Краев и мокрой губкой спешно стирает с черной доски времен всю беспризорную жизнь Амельки (542).
Так трижды стирая всю прежнюю грешную жизнь беспризорника, товарищ Краев словно отпускает ему грехи, очищая душу. Вспоминаются амелькины слова Фильке:
…Душевные страданья — как огонь. Либо всего человека спалит — тогда аминь, либо скверноту одну: тогда думы другие зарождаются. Человек в большую совесть вступает (470).
Подобно тому, как Иоанн Богослов рисует в своем Откровении «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1), автор изображает в повести обновление мира: «Прежнего Амельки больше не существовало. Был другой Амелька, и мир, охвативший его, другой был. <…> все ново, незнакомо, сказочно», — и глаза у Амельки теперь «какие-то новые, вдумчивые, просветленные» (544). Таким образом, посредством архетипических образов и мотивов, восходящих к Откровению Иоанна Богослова, автор изображает конец старого темного мира и рождение нового, светлого.
В жизненном пути многих героев Шишкова угадывается мотив блудного сына. Собственно, композиционная структура повести раскрывает духовный путь детей-беспризорников из тьмы, в которую их ввергли преступления родителей и их собственная неправедная жизнь, к свету, в семью, в Отчий дом. В повести прослеживается возвращение блудных детей домой на сакральном уровне. Идея библейской притчи: «был он мертвым и стал живым», — лежит в основе сюжета повести о беспризорниках. В первой части звучит средневековый мотив «плясок смерти»:
Пляска голодранцев коротка, быстра, пьяна. Тлен, лохмотья, ветошь стлались по воздуху в вихре дьявольского танца. <…>
Исковерканные гиканьем, свистом, лица танцоров были отечны, болезненны, дряблы, в грязи, копоти, ссадинах, кровоподтеках; они отливали каким-то синевато-желтым отсветом, в каждой гримасе скользили злобность, тупое презрение к жизни, бахвальство, ярь. Если б не взбудораженные водкой сверкающие взоры, лица стали бы безжизненными масками и пляска — танцем мертвецов (167).
В финале повествования «бездомники», как называет их автор, не только обретают дом, они прозревают и воскресают в новую жизнь:
Они чувствовали себя слепорожденными, которые вдруг прозрели и впервые увидали жизнь (552).
Таким образом, В. Я. Шишков показывает странствие души — из глубин нравственного падения к преображению и воскрешению. При этом, как пишет В. А. Редькин, «автор исследует и сопоставляет три аксиологии, реально существующих в жизни <…>. Это аксиология христианская, система ценностей воровского мира и коммунистическая, основанная на атеизме» [9, 19].
Итог странствий героев повести — бывших беспризорников — путешествие в Крым, который был для них воплощением мечты о земном рае, где «нагнул кипарисину, нарвал апельсинов, сколько надо <…> таким же манером винограду <…>. А глянул вниз, — там волны рыбин живых швыряют прямо на берег» (197). В своем пророческом сне Амелька задает своим друзьям, плывущим на восстановленной барже, вопрос: «Куда же вы, ребята, плывете?» — и слышит ответ: «А плывем мы в Крым» (541). Слова Павлика, бывшего беспризорника по кличке Инженер Вошкин, в самом финале повести подчеркивают приоритет мечты, духовных поисков над реальностью: «Я думал: Крым — что-нибудь особенное, а это — полуостров» (558). Таким образом, если раньше рай представлялся беспризорникам в виде фантастического топоса — изобильного места, то теперь преображенные герои ощущают рай как состояние души.
Недаром в финале появляется образ церкви, возникающий как бы на втором плане, в некой перспективе. Он выглядит
«игрушечным» и почти незаметен на фоне шири и света, открывшихся прозревшим героям. Но то, что автор не преминул изобразить церковь в своем произведении, посвященном преображению заблудших душ, представляется неслучайным и знаменательным:
Дул легковейный ветерок; блистало спускавшееся к горизонту солнце; шелковая гладь голубого неба уходила в неведомую даль. Все небо, весь необозримый мир были густо насыщены ярким светом. Свет, высь, простор неотразимо манили подпрыгнуть, взмахнуть крыльями, лететь. А под ногами — вправо и влево — белела змеистая дорога, извивно виляя меж кудрявыми купами садов, огибая щеголявшие белизной дворцы. Внизу, в полугоре, на игрушечной площадке, вознесясь над кручами серых скал, пестрела игрушечная церковь (553).
Библейская символика пронизывает все повествование, проявляется как на уровне семантики названия и образной системы, так и в трехчастном композиционном строе повести, передающем логику авторского замысла — движение героев от тьмы преисподней к свету. Интерпретация библейской символики, которой насыщена повесть Шишкова «Странники», вносит новые, не прочитанные до сих пор литературоведением смыслы, заключающиеся в содержании этого произведения.
Дата поступления в редакцию: 15.01.2017
Список литературы Библейская символика в повести В. Я. Шишкова "Странники"
- Бердяев Н. А. Судьба России. -М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. -333 с.
- Головина Л. Г. Реализация мифологем «дом» и «странничество» в русской прозе XX в. о беспризорниках и детях-сиротах//Знание. Понимание. Умение. -2011. -№ 4. -С. 261-263.
- Еселев Н. Х. Шишков. -М.: Молодая гвардия, 1956. -224 с.
- Карр-Гомм С. Словарь символов в искусстве: Иллюстрированный ключ к живописи и скульптуре. -М.: АСТ: Астрель, 2003. -335 с.
- Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение//Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. -Л.: Наука, 1984. -С. 7-71.
- Наследие В. Я. Шишкова: феноменология творчества. (К 135-летию со дня рождения В. Я. Шишкова): коллективная монография/науч. ред. В. А. Редькин. -Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. -232 с.
- Платонова О. Символика цвета в православии//Фундаментальные понятия. -2009. -№ 2. -С. 20 . -URL: http://www.ug.ru/archive/32917 (10.01.2017).
- Редькин В. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. -Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. -152 с.
- Редькин В. А. Аксиологические проблемы в романе В. Я. Шишкова «Странники»//Наследие В. Я. Шишкова: феноменология творчества. (К 135-летию со дня рождения В. Я. Шишкова): коллективная монография/науч. ред. В. А. Редькин. -Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. -С. 17-36.
- Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. -М.: Крон-Пресс, 1996. -656 с.
- Шишков В. Я. Мой творческий опыт. -М.: Сов. Россия, 1979. -96 с.