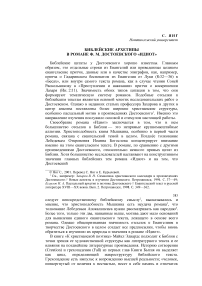Библейские архетипы в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Бесплатный доступ
Отсылки к Книге Бытия создают в «Идиоте» контекст для мотивов Христа и Апокалипсиса и возникает единая библейская система романа, основанная на динамике воскресения. Воскресение не есть только тема романа — это его структурная доминанта.
Достоевский,
Короткий адрес: https://sciup.org/14749156
IDR: 14749156
Текст научной статьи Библейские архетипы в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Библейские цитаты у Достоевского хорошо известны. Главным образом, это отдельные строки из Евангелий или приведенные целиком евангельские притчи, данные или в качестве эпиграфов, как, например, притча о Гадаринском бесноватом из Евангелия от Луки (8:32—36) в «Бесах», или внутри самого текста романа, как в случае чтения Соней Раскольникову в «Преступлении и наказании» притчи о воскрешении Лазаря (Ин. 2:11). Значимость обоих типов цитации в том, что они формируют тематическую систему романов. Подобные отсылки к библейским текстам являются основой многих исследовательских работ о Достоевском. Однако в недавних статьях профессора Захарова и других в центр анализа поставлены более широкие христианские структуры, особенно пасхальный мотив в произведениях Достоевского1. Именно это направление изучения послужило основой и стимулом настоящей работы.
Своеобразие романа «Идиот» заключается в том, что в нем большинство отсылок к Библии — это непрямые крупномасштабные аллюзии. Христоподобность князя Мышкина, особенно в первой части романа, связана с евангельской темой в целом. Позднéе толкование Лебедевым Откровения Иоанна Богослова концентрирует внимание именно на этом евангельском тексте. В романе, по сравнению с другими произведениями Достоевского, относительно немного прямых цитат из Библии. Хотя большинство исследователей настаивают на конструктивном значении главных библейских тем романа «Идиот» и на том, что Достоевский _______
своего прошлого состояния, которые задают его движение к состоянию будущему, отчетливо названному апостолом Павлом “новым человеком” (Еф. 4:24)»5. Этот цикл многократно повторяется в библейском тексте, например, в предании о потопе в Книге Бытия. Однако движение от сотворения к воскресению (Re-Creation) проявляется наиболее ясно и наделено наибольшим значением именно в Новом Завете. Жизнь, смерть и Воскресение Христа воспроизводят весь цикл сотворения, грехопадения и воскресения в пределах одной судьбы6. Более того, предсказание последнего всеобщего разрушения и последующего обновления в Откровении Иоанна Богослова сводит всю структуру воедино, скрепляя конец и начало Библии. Подобное прочтение выявляет диалектическую структуру как Библии в целом, так и составляющих ее частей7 и показывает, что она может _______
Важность Ветхого Завета для понимания Нового Завета подчеркивается и Нортропом Фрайем в его размышлениях _______
-
8 Reed W . L . Dialogues of the Word: The Bible as Literature According to Bakhtin. New York; Oxford: Oxford University Press, 1993. Р. 111 .
-
9 Ibid. Р. 144.
-
10 Бахтин М . М . Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики Исследования разных лет. М., 1975. С. 154. Цит. по: Reed W . L . Op. cit. Р. 144.
385 о библейской типологии11. Он говорит о способе предвещания, где образы Ветхого Завета и предсказывают, и объясняют параллельные образы хронологически более позднего Нового Завета. Согласно Н. Фраю, сама Библия указывает на типологические связи: Послание к Римлянам соотносит Христа с типологической фигурой Адама; Послание апостола Петра описывает потоп в Книге Бытия как прообраз Крещения12. Как указывает Н. Фрай, до объяснения Иисусом смысла воскрешения словами пророчества Моисеева, апостолы этого смысла не понимали (Лк. 24:44). Эту особенность нельзя оставить без внимания — она подтверждает ключевую роль Ветхого Завета в истолковании значения Нового Завета13.
Структурные и диалогические отношения обоих Заветов в Библии имеют важное значение для анализа библейской системы романа «Идиот»14. Эти отношения задают множество аспектов исследования. Но, возможно, наиболее плодотворным является тот, который следует из обозначенного М. Эдвардсом цикла сотворения, грехопадения и воскресения как макроструктуры всей Библии. Жизнь Христа и Апокалипсис — две главные сферы библейских отсылок в романе — представляют вторую и третью стадии этого цикла. То, что обе они предполагают подтверждение и объяснение параллелями с Ветхим Заветом, наводит на мысль об уместности анализа романа «Идиот» с точки зрения выявления аллюзий на исходную ситуацию сотворения и грехопадения в Книге Бытия.
Так же, как и в случае других библейских отсылок, Книга Бытия не содержит какого-либо отдельного стиха или крупного отрывка, который оказался бы главным источником романа. Это, скорее, вопрос сходства тематических метаструктур двух текстов (первой книги Ветхого Завета и романа Достоевского). Вальтер Рид выявляет в Книге Бытия три парадигмы божественного/человеческого общения: «соглашение с парой», как в случае Божественного у Настасьи Филипповны. Оба они узнают друг друга при первом же свидании: «…я ваши глаза точно где-то видел <…> Может быть, во сне…»16. И это заставляет предположить, что каждый из них видит в другом отблески иной, утраченной, жизни, которую мы соотносим с архетипом Эдема. Это ощущение становится еще сильнее, когда Настасья Филипповна говорит Мышкину: «…в первый раз человека видела» (148) — очевидная аллюзия на то, что Адам был первым человеком. И хотя драма падения каждого из них не явлена читателю в романе, грехопадение Адама и Евы находит параллели в судьбах Настасьи Филипповны и Мышкина17. К началу романа героиня уже соблазнена и опозорена и уже изгнана из рая. Падение Мышкина не столь очевидно. Начиная со второй части изначальная невинность и доверчивость Мышкина сменяются подозрительностью и склонностью к «двойным мыслям» (258). Более того, Настасья Филипповна знает, что она, падшая Ева, увлечет за собой своего Адама и потому начинает его избегать.
Давно и хорошо известна типологическая связь Адам и Ева / Христос и Мария Магдалина. Так же общепризнана и параллель между Настасьей Филипповной и Мышкиным и Христом и Марией Магдалиной. Обе параллели естественно выстраиваются в цепочку, в которой звено Настасья Филипповна — Мышкин получает дополнительное измерение.
Вторая из обозначенных В. Ридом парадигм не имеет столь отчетливой связи с Новым Заветом. Поэтому отголоски ее в «Идиоте» важны своими специфическими аллюзиями на Ветхий Завет. Отношения Мышкина и Рогожина слова18. Со лжи Змия, приведшей к падению, начинается двусмысленное слово и утрачивается изначальная гармония19. Результат падения поэтому двойствен. Во-первых, он порождает стремление к возрождению: «мир повествования являет желанную другость <…> мы рассказываем истории, потому что в нас живет потребность мира внутри истории»20. Очевидный литературный характер Книги Откровений, в которой по меньшей мере 40 стихов содержат упоминание различных форм бытования текста (книга, свиток, послание), говорит о значении повествования в процессе воссоздания. Во-вторых, начавшийся со Змия разрыв между словом и значением — «падшее слово», по терминологии Малкольма Джоунса21 — _______
-
18 Edwards M . Op. cit. Р. 151.
-
19 Ibid. Р. 10.
-
20 Ibid. Р. 73.
-
21 Джоунс М . Достоевский после Бахтина: исследование фантастического реализма Достоевского. СПб., 1998. С. 214.
утверждает воссоздающую способность языка, которая уже сама по себе есть главная движущая сила литературы: «подвергнутое сомнению слово становится царством намеков, предположений, фрагментов новой реальности, возникающей из фрагментов новой речи»22.
Большое число вставных повествований в романе «Идиот» приводит к заключению о том, что стремление к воскрешению также играет в нем важную роль. Истории, рассказанные князем Мышкиным в первой части романа, открывают тему повествования как такового. При этом лежащая в его основе идея взгляда на другую, утраченную реальность является темой многих из этих историй. Он рассказывает о мыслях человека, приговоренного к смерти. Это предполагает, что он понимает возможность иного временного измерения. Когда Александра Епанчина заявляет: «…нельзя жить, взаправду «отсчитывая счетом»«, князь отвечает ей: «Да, почему-нибудь да нельзя же <…> мне самому это казалось… А все-таки как-то не верится» (58). Его рассказ про водопад предлагает и другое пространственное измерение:
Вот тут-то, бывало, и зовет всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нем всё дворцы, шум, гром, жизнь… (51).
Образ водопада здесь отсылает сразу к двум библейским фрагментам: источнику рек Эдемских из Книги Бытия (2:6) и возвращению человечеству вод жизни в конце Книги Откровений (22:1—2)23. Более того, город видений Мышкина напоминает Новый Иерусалим Книги Откровений (21:1—2). Таким образом, утверждаются две линии, связывающие видение Мышкина и модель абсолютного восстановления, что и завершает цикл библейской макроструктуры. Подобная связь продолжается во второй части романа, где становятся очевидными истоки способности Мышкина к прозрению иных реальностей. Перед первым припадком его слова снова отсылают к Книге Откровений: _______
Ведь это самое бывало же, ведь он сам же успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. «В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет » (189).
В моменты перед припадком Мышкину, действительно, является другая реальность. Ее он ощущает как «высший синтез жизни» (188) и, цитируя библейскую фразу, соединяет эту высшую реальность с моделью воскрешения, описанной в Книге Откровений. Таким образом, происходящие с Мышкиным истории повествователь наделяет дополнительным авторитетом: знание героем «миров иных» заставляет его рассказывать их, чтобы знание это передать другим.
Однако после первого припадка Мышкин больше ни о чем не рассказывает и вообще высказывается неохотно. Эта перемена — свидетельство упадка силы его слова, очевидный знак того, что он лишен Божьей благодати. И здесь князь Мышкин оказывается примером всеобщей для падшего мира проблемы общения людей друг с другом. «Разрыв между обозначающим и обозначаемым»24 начался со лжи Змия. Сдвиг от легкости передачи Мышкиным чужого мира в первой части к последующему его беспокойству о невозможности общения с людьми делает этот разрыв очевидным:
Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею . Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею (458).
Стремление к созданию альтернативной реальности очевидно и в повествованиях других героев. В первой части романа их истории второстепенны по сравнению с историями князя. Но когда он теряет способность говорить о «высшем синтезе жизни», другие герои становятся более активными рассказчиками. Основные ситуации вставных повествований во второй части — это вариация Аглаи на тему «жил на свете рыцарь бедный» и чтение Колей Иволгиным статьи Келлера. Третья часть романа концентрирует внимание, главным образом, на трактовке Лебедевым Апокалипсиса и на чтении Ипполитом «Необходимого объяснения».
структурная доминанта.
В конце романа принцип воскресения теряет свою воссоздающую силу. Единственный намек на возможность обновления характеризует только двух героев — Колю Иволгина и Веру Лебедеву. «Высший синтез жизни», чувством которого наделен Мышкин, перестает быть доступным остальным героям. Но и у самого Мышкина он неоднозначен, так как неотделим от его припадков, а значит, болезни, и в конце концов приводит его к безумию. Воскрешение, достигаемое через падшее слово в падшем мире, остается проблематичным в финале романа. Достоевский, однако, не отказался от идеального завершения судьбы героя. Показательно, что в его последнем романе, в котором герои обретают высшую реальность через веру, есть две отсылки к Евангелиям. Христос, превращающий воду в вино (брак в Кане Галилейской), рассеивает сомнения в вере у Алеши Карамазова. Но еще важнее то, что эпиграф романа прямо утверждает цикличность от сотворения к воскресению в самой природе: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24).
Список литературы Библейские архетипы в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 37-49
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 349-362.
- Guardini R. Dostoevsky’s Idiot: A Symbol of Christ//Cross Currents. 6 (1956). Р. 359-382.
- Krieger M. Dostoevsky’s Idiot: The Curse of Saintliness//Dostoevsky: A Collection of Critical Essays/Ред. Renеv Wellek (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1962). Р. 39-52
- Cox R. Between Earth and Heaven: Shakespeare, Dostoevsky and the Meaning of Christian Tragedy. New York, 1969. Р. 175-180.
- Edwards M. Towards a Christian Poetics. London, 1984. Р. 6.
- Reed W. L. Dialogues of the Word: The Bible as Literature According to Bakhtin. New York; Oxford: Oxford University Press, 1993. Р. 111.
- Бахтин М. М. Слово в романе//Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 154.
- Frye N. The Great Code: The Bible and Literature. London, 1982. Р. 78-86.
- Ляху В. О влиянии поэтики Библии на поэтику Ф. М. Достоевского//Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 137.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972-990. Т. 8. С. 90.
- Джоунс М. Достоевский после Бахтина: исследование фантастического реализма Достоевского. СПб., 1998. С. 214.