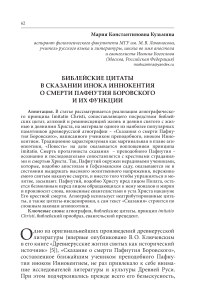Библейские цитаты в сказании инока Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского и их функции
Автор: Кузьмина Мария Константиновна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.12, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается реализация агиографического принципа Imitatio Christi, сопоставляющего посредством библейских цитат, аллюзий и реминисценций жизнь и деяния святого с жизнью и деяниями Христа, на материале одного из наиболее популярных памятников древнерусской агиографии - «Сказания о смерти Пафнутия Боровского», написанного учеником преподобного, иноком Иннокентием. Традиционно характеризуемая как маргинальная в плане агиопоэтики, «Повесть» на деле оказывается воплощением принципа imitatio. Смерть протагониста сказания - преподобного Пафнутия -осознанно и последовательно сопоставляется с крестными страданиями и смертью Христа. Так, Пафнутий окружен нерадивыми учениками, которые, подобно апостолам в Гефсиманском саду, оказываются не в состоянии выдержать высокого молитвенного напряжения, переживаемого святым накануне смерти, и вместо того чтобы упражняться в молитве, засыпают. Пафнутий, подобно Христу пред лицом Пилата, остается безмолвным перед лицом обращающихся к нему монахов и мирян и произносит слова, вложенные евангелистами в уста Христа накануне Его крестной смерти. Агиограф использует неатрибутированные цитаты, а также цитаты-инсценировки, а сам текст «Сказания» строится по сложным законам агиопоэтики.
Агиография, библейские цитаты, принцип imitatio christi, библейский прообраз, евангельский прецедент
Короткий адрес: https://sciup.org/14749264
IDR: 14749264
Текст научной статьи Библейские цитаты в сказании инока Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского и их функции
Од но из оригинальнейших произведений древнерусской литературы (впервые опубликовано В. О. Ключевским в его книге «Древнерусские жития святых как исторический источник» [5]), «Сказание о смерти Пафнутия Боровского», составленное ближайшим учеником преподобного Пафну-тия иноком Иннокентием, не раз привлекало к себе внимание исследователей литературы и культуры Древней Руси. При этом подчеркивались прежде всего его безыскусность, нелитературность и точность в описании Иннокентием обыденной жизни русского средневекового монастыря.
По словам Д. С. Лихачева, «перед нами как бы бессознательный, стихийный средневековый натурализм» [6, 132] — явление чрезвычайное для словесности той эпохи. По мнению Я. С. Лурье, для текста «Сказания» характерна «точная передача устной интонации Пафнутия», а «безыскусность и непосредственность изложения при несомненном литературном таланте автора делают Записку Иннокентия одним из замечательнейших памятников древнерусской литературы» [4, 404].
Действительно, «Сказание» изобилует характерными подробностями, бытовыми деталями и репликами, передающими или стремящимися буквально передать сказанное самим Пафнутием и его учениками в последние дни его жизни. В тексте «Сказания» мы видим преподобного вблизи, лишенным нимба, сидящим у сенных дверей, скрывающимся в алтаре от назойливого княжеского посланника, одеваемым руками учеников к богослужению.
Однако впечатление простоты и безыскусности, справедливо рождающееся у читателя, раскрывает перед ним только внешний план повествования. Ключом же к разгадке сокровенного, глубинного смысла происходящего должны явиться цитаты и аллюзии на тексты Священного Писания, в первую очередь на текст Четвероевангелия, и — точнее — на текст двенадцати страстных Евангелий.
Именно цитаты на тексты Четвероевангелия являются теми тематическими ключами [8, 433], при помощи которых Иннокентий совсем не безыскусно, а показывая изрядное литературное мастерство, выстраивает свое описание смерти преподобного.
В целом повествование являет собой прекрасный образец реализации литературной парадигмы Imitatio Christi , одного из основных принципов агиографической поэтики Древней Руси [11, 13].
Первая же аллюзия Иннокентия на Евангелие от Иоанна (Мария «яко услыша, воста скоро и иде к нему», Ин 11:29)
служит раскрытию главной мысли автора: жизнь Пафнутия есть воспроизведение евангельского прецедента:
Егда же 6-му часу скончавшюся, тогда прииде ко мне ученикъ старцевъ юнный Варсануфье и рече ми: «Старець Пафнотей посла къ тебе, поиди, идеже ти сам повелехъ». Мне же смутившуся о семъ, скоро вьстахъ и идохъ къ старцу1 (460).
Здесь впервые в тексте сказания инок Иннокентий использует неатрибутированную цитату, при прочтении которой преподобный Пафнутий соотносится с самим Христом, сам же составитель сказания сокровенно сопоставляется с сестрой Лазаря Марией, скоро восставшей на встречу пославшему за ней учителю. Мария, напомним, избрала благую часть слушания божественных заповедей. Действительно, Иннокентий как составитель сказания показывает себя прекрасным знатоком Священного Писания. Одновременно Варсонофий неслучайно, как увидим впоследствии, сопоставлен именно с Марфой, которая в Евангелии «печется и молвит» о многом, но чего-то существенного в духовной жизни не понимает.
Итак, как некогда Христос призвал к себе вторую сестру умершего Лазаря, Пафнутий призывает к себе Иннокентия, послав за ним одного из своих учеников.
То, что здесь и далее перед нами не точная цитата, а скорее аллюзия, в которой предикация подлинника изменена, вовсе не должно нас смущать. «Значимые параллели летописных фрагментов с библейскими сказаниями совершенно необязательно должны иметь вид точных цитат» [9, 25]. То же самое можно утверждать и применительно к древнерусской агиографии. Однако для того, чтобы можно было утверждать, что неатрибутированная книжником цитата вводится им в повествование осмысленно как отсылка к библейскому контексту, необходимо найти как минимум две или три схожие по своей функции в составе композиции жития цитаты: «При разграничении цитаты и топоса необходимо, очевидно, учитывать общую стратегию текста: наличие иных цитат, следов установки на связь с контекстом, которому принадлежит вероятный источник, оправданность цитаты
(функциональность, привнесение дополнительных смыслов из исходного текста)» [10, 27].
Этот критерий, который можно назвать критерием двух и более элементов в составе интерпретируемого произведения, соотнесенных с библейским архетипом, соблюден: Иннокентий, как увидим, отсылает своего читателя к тексту Четвероевангелия многократно.
Тогда не обретох покоя всю нощь, но без сна пребывах, множи-цею и к келии старца прихождахъ в нощи и не смеях внити, понеже слышах его не спяща, но молящася. Ученику же его, юну сущу, ничтоже от сих ведящу, точию сну прилежащу (480).
Впервые в тексте сказания нерадивый ученик старца Паф-нутия спит, в то время как тот пребывает на молитве. Отметим кстати, что действие сказания начинается в четверг: Въ четверг 3 недели, назавтрее Георгеева дни (478) , В сий же день четверток имам пременитися немощи моея (480) .
Итак, в последний четверг перед смертью преподобный, предчувствуя кончину, молится, тогда как ближайший его ученик Варсонофий отягощен сном.
Через несколько дней картина повторяется:
Мне же малаго ради покоя отшедшу въ келью, пакы помале възвратихся кь старцу, обретох его неспяща, Иисусову молитву глаголюща, брата же седяща и дремлюща (494).
Преподобный, проникнутый покаянным ожиданием приближающейся смерти, молится, брат же келейник в нерадении спит.
Наконец, и в третий раз, перед самой кончиной преподобного, Иннокентий вновь находит Пафнутия бодрствующим и молящимся, тогда как изнемогший от усталости Варсоно-фий, вполне оправдавший сопоставление с Марфой, заснул:
Старцу молящуся, якоже преже рех, аз же възбудих ученика его спяща и жестокыми словесы претих ему, и нерадива и непотребна нарицах его: «Не видиши ли старца въ последнемъ издыхании, а ты не трепещеши, ни трезвишися!» (508).
Таким образом, троекратно повторяющийся на протяжении текста «Сказания» мотив молитвы предчувствующего приближение смерти преподобного в окружении отягощенных сном учеников отсылает читателя к Гефсиманской молитве Христа:
И глагола учеником: седите ту, дондеже шед помолюся тамо. И поем Петра и оба сына Зеведеова, начатъ скорбети и тужити. Тогда глагола им Иисус: Прискорбна есть душа моя до смерти. Пождите зде, и бдите с мною. И пришедъ мало, паде на лице сво-емъ моляся и глаголя: отче мой, аще възможно есть, да мимоидет от мене чаша сия, обаче не якоже азъ хощу, но якоже ты. И пришед к учеником, и обрете их спящих и глагола Петрови: Тако ли не воз-могосте единаго часа побдети со мною (от Мф. 26:36–40, см. также от Мк. 14:33–41).
Келейник святого, будучи не в состоянии вынести духовного напряжения, переживаемого преподобным Пафнутием, засыпает, и старец вынужден молитвенно предстоять Богу в полном одиночестве.
Отметим и то, что в евангельском тексте между первым, вторым и третьим снами апостолов, укоряемых Христом за небрежение в молитве, проходит всего несколько часов. В тексте же «Сказания» мотив одинокой молитвы преподобного повторяется с интервалами в несколько дней. При этом с каждым разом его трагизм нарастает, смерть святого старца приближается, а ученики все так же пребывают в пагубном нерадении.
Перед нами типичная цитата-инсценировка, в терминологии М. Гардзанити [1, 30], представленная композиционным объединением разрозненных цитат. Следует также отметить, что для восприятия подобной цитаты необходимо более чем внимательное прочтение текста «Сказания». Таким образом, агиограф адресует свое произведение читателю, ориентированному на последовательное нахождение в его тексте библейских прообразов.
Примечательно, что в нерадении Варсонофия упрекает не сам Пафнутий, что сделало бы сходство с евангельским прототипом буквальным, а автор сказания Иннокентий. Искусные библейские инкрустации в составе текста «Сказания» говорят о том, что Иннокентий в первую очередь литератор, и только потом биограф. Параллель «Пафнутий — Христос» есть параллель, подсказанная книжнику агиографическим узусом и многочисленными примерами аналогичных реализаций на материале других житий. Итак, сам агиограф понимал, что старец не мог ассоциировать себя с Христом, и подчеркивал свое авторство воспроизводимой концепции.
Узнав о болезни преподобного, иноки обители, а также некоторые из почитавших его мирян стремятся проститься с ним, заручиться его благословением, услышать его предсмертные наставления, старец, однако:
О всем млъчаше, разве точью молитву Иисусову непрестанно глаголаше (482).
Мотив молчания святого устойчив и неоднократно повторяется в «Сказании». На большую часть вопросов мирян и даже ближайших своих учеников старец, как некогда и Господь перед лицом архиереев и Пилата, отвечает молчанием: «он же молчаше, и ничесоже отвещаваше» (Мк. 14:61).
Таже братии подоваше, глаголя: «Пийти чашю сию, чада, пий-ти аки последнее благословение, аз бо к сему не еще от сея пию или вкушу» (500).
Иннокентий использует еще одну евангельскую аллюзию, в которой его учитель Пафнутий сопоставляется с Христом, прощающимся с учениками-апостолами на Тайной Вечере: «Глаголю же вамъ, яко не имам пити отныне от сего плода лознаго, до дне того, егда и пiю с вами ново в царствии отца моего» (Мф. 26:29). Параллель Пафнутий — Христос, таким образом, углубляется и обрастает дополнительными смыслами.
Преподобный Пафнутий, как и некогда Христос, предвидит все, должное с ним случиться, с предельной духовной сосредоточенностью переживает приближение смертного часа и потаенно свидетельствует об этом своим ученикам. Кроме того, преподобный старец косвенно возвещает им о посмертной жизни и союзе любви, которым будут соединены его верные ученики в царствии отца моего , в царствии Единого, или Христа, которому он служил от юности.
Одним из главных мотивов «Сказания» является мотив конечного отречения преподобного Пафнутия от временных и суетных дел мира сего. На протяжении последних предсмертных дней жизни святого старца обитель наполняется многими мирянами, в том числе — посланниками великого князя, его матери княгини Марии, жены великого князя, «грекыни» Софьи, а также Можайского князя Михаила Андреевича. Преподобный Пафнутий категорически отказывается принять кого бы то ни было: Никтоже от мирянъ входить кь старцу, ниже самый князь, аще ли же истинну ти реку — ни пославый тя внидет (492), — вынужден ответить Иннокентий посланнику самого Ивана III. В ответ на назойливые просьбы Иннокентия принять богатые подношения высокопоставленных посланцев Пафнутий сокрушается:
Не даси же ми от мира сего ни един час отдохнути. Не веси ли — 60 лет угажено миру и мирьскым человеком, князем и боя-ром! И в сретенье им совано ся, и в беседе с ними маньячено, и вслед по них такоже совано ся. А того и не вем: чесого ради? Ныне познах — никая ми от всего того полза (502).
Но ведь именно излишняя вовлеченность в дела мира сего ставилась некоторыми исследователями текста «Сказания» в вину преподобному. Так, по мысли И. У. Будовница, самым большим достижением преподобного Пафнутия было «установление тесных связей с сильными мира сего, поддерживавшими Пафнутиев монастырь своими средствами» [2, 226].
Действительно, мотив отречения, отказа преподобного на смертном одре от житейских забот и угождения властям предержащим не только неоднократно повторяется в тексте «Сказания», но и усиленно нагнетается по ходу его действия, принимая подчас самые неожиданные формы.
Так, удельный князь Михаил Можайский неоднократно выступает в тексте «Сказания» в роли самого дьявола, иначе — князя мира сего .
Дивлюся князю, съ чем присылаеть — «Сына моего благослови, князя Ивана», а князь Василей ему не сынъ ли? Самъ на ся разде-лися (490), — замечает Пафнутий на просьбу князя, переданную Иннокентием.
В этих словах Пафнутий, как это было отмечено Л. А. Дми-триевым 2 , цитирует Евангелие от Матфея (12:25–26), причем князь Михаил сопоставляется именно с дьяволом, сильным, дом которого непременно падет, и царство которого не устоит.
Впоследствии сопоставление углубляется:
Мне же сказавшу, что князь присла, ему же ничтоже отвещав-шу, точию отпустити повеле: «Несть ему у мене ни о чем дела» (482).
В контексте приведенной выше цитаты слова святого следует прочитывать как аллюзию на четырнадцатую главу Евангелия от Иоанна: «Ктому немного глаголю с вами. Грядет бо сего мира князь, и в мне не имать ничесоже» (Ин. 14:30).
Почему же князь Михаил Можайский в Пафнутии не имать ничесоже ? Потому ли только, что «преподобный старец в жизнь свою испытал довольно скорбей от удельной власти, сильной для своеволий и бессильной для защиты подчиненных ей» [3, 241]?
Не только.
По мысли многих святых отцов, в частности Никодима Святогорца, каждый человек в час, предшествующий его смерти, должен, подобно Христу, встретиться с князем мира сего: «Ибо если враг дерзал приступать к безгрешному Господу в конце земных дней Его, как сказал Сам Господь: Грядет бо мира сего князь, и во Мне не имать ничесоже (Ин. 14, 30), то что же может удержать его от нападения на нас, грешных, в конце нашей жизни?» [7, 379].
Инок Иннокентий (так называемый простец от литературы!), таким образом, мастерски переосмысливает одно из характерных святоотеческих изречений, возводя проблему взаимоотношения монастырского руководства и светской власти на глубочайший, богословски осмысленный уровень.
Литературное чудо XV века [6, 132], таким образом, интересно не столько своим надвременным, опередившим свой век натурализмом и протокольностью производимых его автором записей, сколько редким соединением внешней литературной простоты и мастерства.
Mariya Konstantinovna Kuzmina
A postgraduate student of Moscow State University, a teacher of russian language and literature (Moscow, Russian Federation)
BIBLICAL QUOTATIONS IN THE LEGEND OF THE
DEATH OF SAINT PAFNUTY OF BOROVSK AND
THEIR FUNCTIONS
Список литературы Библейские цитаты в сказании инока Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского и их функции
- Гардзанити М. Библейские цитаты в литературе Slavia Orthodoxa//ТОДРЛ. Т. LVIII. СПб., 2007. С. 28-41.
- Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI вв. М., 1966. 392 с.
- Филарет (Гумилевский). Русские святые. Спб., 2008. 760 с.
- Иннокентий, инок Пафнутиева монастыря//Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XIV-XVI в. А -К. Л., 1988. С. 404-405.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 2003. 394 с.
- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970. 180 с.
- Никодим Святогорец. Невидимая брань, М., 1996. 55 с.
- Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном коде православного славянства//Slavia Orthodoxa. Литература и язык. М., 2003. С. 431-466.
- Ранчин А. М. Еще раз о библеизмах в древнерусском летописании//Вертоград златоструйный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 24-41.
- Ранчин А. М. О топике в древнерусской словесности: к проблеме разграничения топосов и цитат//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. № 3. С. 21-32.
- Руди Т. Р. Imitatio Christi//Die Welt der Slaven. Munchen, 2003. Bd 48. S. 123-134.
- Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической топики)//Русская литература. 2003. № 2. С. 48-59.