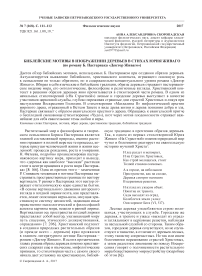Библейские мотивы в изображении деревьев в стихах Юрия Живаго (по роману Б. Пастернака "Доктор Живаго")
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Дается обзор библейских мотивов, используемых Б. Пастернаком при создании образов деревьев. Актуализируется выявление библейского, христианского контекста, играющего основную роль в осмыслении не только образного, но и содержательно-концептуального уровня романа «Доктор Живаго». Вбирая в себя языческие и библейские традиции, образы деревьев отражают пастернаковское видение мира, его онтологические, философские и религиозные взгляды. Христианский контекст в решении образов деревьев явно прочитывается в стихотворной части романа. В одном из начальных стихотворений («На Страстной») лесные и городские деревья выступают в качестве участников церковной службы, глубоко переживая страшные дни страстей Христовых и ликуя при наступлении Воскресения Господня. В стихотворении «Магдалина II» мифологический архетип мирового древа, отраженный в Ветхом Завете в виде древа жизни и дерева познания добра и зла, Пастернак связывает с образом евангельского крестного дерева. Обращаясь к евангельской притче о бесплодной смоковнице (стихотворение «Чудо»), поэт через мотив плодоносности отражает важнейшие для себя евангельские темы любви и веры.
Пастернак, поэтика, образ дерева, христианские традиции, библейские традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/14751228
IDR: 14751228 | УДК: 821.161.1.09,,19..“
Текст научной статьи Библейские мотивы в изображении деревьев в стихах Юрия Живаго (по роману Б. Пастернака "Доктор Живаго")
Растительный мир в философском и творческом осмыслении Бориса Пастернака является главной составляющей природы, именно растения отражают в полной мере все те процессы, которые присущи человеческой жизни и жизни вселенной: процессы рождения, роста и умирания. Н. Фатеева, подробно проанализировав пастернаковскую картину мира, приходит к выводу, что «деревья как наиболее “высокие” растения стоят в центре вращения и роста мира Пастернака» [8: 166]. Одна из причин этого – замеченная Р. Спиваком тенденция в поэтике Пастернака выстраивать пространственные границы по вектору вертикали. У раннего Пастернака этот вектор отражает отнтологическую идею единства бытия. «В основе вертикального движения авторского взгляда в поздней лирике поэта, как представляется, лежит оппозиция верха-низа, несущая христианскую систему ценностей, задающая иные нравственно-психологический и философский аспекты картины мира, нежели в ранней лирике. Вертикальная ось пространства поздней лирики представляет собой вектор, указывающий миру путь спасения, этического долженствования, оправдания» [7: 206]. Христианский подтекст в создании природных растительных образов (и прежде всего – деревьев) ярко проявился в главном литературном детище Пастернака – романе «Доктор Живаго». И если в прозаических главах романа образы деревьев помимо христианских содержат еще и языческие, мифологические признаки, то стихотворная часть с самого своего начала дает установку на христианскую, библей
скую традицию в прочтении образов деревьев. Так, в одном из первых стихотворений Юрия Живаго «На Страстной» именно природный мир чутко и болезненно реагирует на евангельскую историю мучений Христа1:
И лес раздет и непокрыт, И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом Пространстве, как на сходке, Деревья смотрят нагишом В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога (VI, 517).
Лесные деревья уподобляются строю молящихся, участвующих в службе. Городские же деревья, в тревоге и ужасе «выходят из оград» и заглядывают в церковные решетки, наблюдая за пасхальной службой со стороны. Таким образом, городские деревья сочувствуют, но не соучаствуют в таинстве, в отличие от деревьев лесных, этому таинству сопричастных. Но так или иначе болезненное переживание страстей Христовых, а затем радостное ликование по поводу Воскресения говорят о подчиненности растительного мира божественному мироустройству (подробнее об этом [6]).
Недаром в заключительном стихотворении живаговского цикла, описывающем пребывание Иисуса Христа в Гефсиманском саду, именно деревья становятся немыми свидетелями его последней земной молитвы:
Ночная даль теперь казалась краем Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем, И только сад был местом для житья.
И, глядя в эти черные провалы, Пустые, без начала и конца, Чтоб эта чаша смерти миновала, В поту кровавом Он молил Отца (VI, 537).
По замечанию В. С. Баевского, «центральное представление индоевропейских и неиндоевропейских мифологий… это axis mundi, ось мира…», в качестве которой зачастую выступает дерево, «мировое дерево». «Задача “мирового дерева” и его субститутов – преобразовать неуловимые для древнего сознания временные отношения в пространственные, внести порядок во вселенную, объединить подземную область, поверхность земли и небо» [2: 124]. Мифологический образ мирового дерева повлиял на образы древа жизни и дерева познания добра и зла в Ветхом Завете.
Как отмечает исследователь русского символизма А. Хансен-Лёве, который подробно проанализировал все мифопоэтические мотивы, использованные поэтами-символистами, «архетип arbor mundi связывает по вертикали земной мир с небесной, космической сферой и – по оси времени – сцену в Эдеме, происходившую в начале времен (райское дерево, древо познания, древо жизни), с жертвенной символикой крестного дерева и с пророческой, апокалиптической ролью дерева в конце времен» [9: 624]. Интересно, что в древнерусском языке подобное значение символа дерева сохранилось на лексическом уровне. По данным словаря литургических символов, первое значение слова «дрєв́ о» – «крест как орудие казни», далее следует определение «Древо познания – прообраз Креста. Оно находилось “посреди рая”, подобно тому, как крест Христов – центр нового духовного рая» [3: 101]. Практически то же явление наблюдаем в церковнославянском языке: дрєв́ о – это 1) дерево, 2) что-либо, сделанное из дерева, 3) крест. Согласно материалам к церковнославяно-русскому словарю последнее значение снабжается следующим примером: «посреди Эдема дерево дало цвет – смерть, и посреди всей земли Древо (Крестное) произрастило жизнь» [5: 115]. Подобную связь мы видим в стихотворении «Магдалина II»:
Когда я на глазах у всех С тобой, как с деревом побег , Срослась в своей тоске безмерной.
Когда твои стопы, Исус, Оперши о свои колени, Я, может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус И, чувств лишаясь, к телу рвусь, Тебя готовя к погребенью (VI, 526).
Таким образом, Пастернак сближает образ дерева с образом-символом креста, на котором был распят Христос. Примечательно и то, что сближение это происходит через женский образ – Магдалину: она сравнивает себя с древесным побегом, а значит, Иисус – дерево. Н. Фатеева справедливо увидела в этом соединение не только мужского и женского, но и божественного и земного начал [8: 166], корни которого восходят к библейскому понятию ветви: «Я есмь лоза, а вы ветви; Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15: 5).
Плодоносность – одна из важнейших характеристик дерева. В Библии зачастую плодоносные деревья становятся символом богобоязненных, истинно верующих людей, в то время как бесплодность превращается в характеристику людей лживых, безответственных. Об этом говорится в евангельской притче о смоковнице: «Поутру же, возвращаясь в город, (Христос) взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не на-шед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. 21: 18). Пастернак использует этот евангельский сюжет в стихотворении «Чудо».
В начале стихотворения показано единство всего сущего на земле: воздух, камни, море застыли в задумчивой неподвижности, и лишь облака плывут вслед за Богочеловеком:
И в горечи, спорившей с горечью моря, Он шел с небольшою толпой облаков По пыльной дороге на чье-то подворье, Шел в город на сборище учеников (VI, 523).
Безлюдный, но не пустынный пейзаж призван подчеркнуть одиночество идущего в Иерусалим Спасителя: его сопровождает лишь «толпа облаков». Христос находится в состоянии душевного страдания, в предчувствии скорой своей смерти, и вся природа сочувствует ему, стараясь принять на себя часть его боли, но лишь смоковница «высится в столбняке», бесчувственная и равнодушная, и Христос карает ее именно за это бесчувствие:
Смоковница высилась невдалеке, Совсем без плодов, только ветки да листья . И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты пустоцвет , И встреча с тобой безотрадней гранита. О как ты обидна и недаровита !
Останься такой до скончания лет» (VI, 523).
Почему Христос карает смоковницу, ведь она бесплодна не по своей воле, а по воле свыше? Пастернак дает свою трактовку этой притчи. В стихотворении Юрия Живаго Христос карает бесплодную смоковницу… бесплодием («Останься такой … » ), но, по мнению В. Альфонсова, «она не захотела остаться такой, она не бесчувственно, не безгласно приняла кару, а словно по собственной воле (не по “законам природы”) преумножила ее до крайности, до предела: “По дереву дрожь осужденья прошла. Смоковницу испепелило дотла”. Пробуждение к жизни, приобщение к высшей
Библейские мотивы в изображении деревьев в стихах Юрия Живаго (по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго») 113
воле – через смирение, самоотрицание. Страдальческая и суровая идея, выраженная в Христе, не просто покарала смоковницу, но ценой гибели возродила ее» [1: 302]. Возрождение возможно через любовь, любовь к ближнему, к себе, ко всему миру. С любовью же связан мотив плодоношения: смоковница бесплодна еще и потому, что в ней нет этой живой, движущей силы любви, силы внутренней, силы духовной. «Лирический герой соотносит священное событие с собственным прошлым. Смоковница – символ его прошлого, той безумной жизни, когда не было места даже мыслям о духовном. Тогда, когда водоворот ги- бельных страстей захватил героя, чудесным образом вмешался Бог и дал ему второе “рождение”» [4: 58].
Итак, образы деревьев в стихах Юрия Живаго содержат в себе прямые отсылки к христианско-библейской традиции. Живаговский цикл, ставший поэтическим переложением духовной биографии заглавного героя романа, через образы деревьев в том числе показывает динамику нарастания христианского контекста от сопереживания (деревья как участники литургии) до сопричастности мукам распятия и таинству воскресения.
Список литературы Библейские мотивы в изображении деревьев в стихах Юрия Живаго (по роману Б. Пастернака "Доктор Живаго")
- Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. Л.: Сов. писатель, 1990. 366 с.
- Баевский В.С. Миф в поэтическом сознании и лирике Пастернака//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. Т. 39. № 2. С. 116-127.
- Кравецкий О.А. Опыт словаря литургических символов//Славяноведение. 1995. № 4. С. 96-105.
- Мазурова Н.А., Краснов Д.А. Образная система цикла «Стихи Юрия Живаго» Б. Пастернака//Культура и текст. 2004. № 7. С. 56-60.
- Седакова О.А. Церковнославяно-русские паронимы: Материалы к словарю. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. 432 с.
- Скоропадская А.А. Уподобление леса храму в поэтике Б. Пастернака//Проблемы исторической поэтики. 2016. Т. 14. С. 383-402.
- Спивак Р.С. Вертикаль в художественном пространстве сада Б. Пастернака (1910-1920-е годы)//«Любовь пространства»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 199-210
- Фатеева Н.А. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 400 с.
- Хансен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб.: Академический проект, 2003. 816 с.