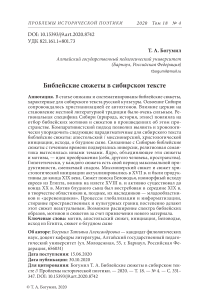Библейские сюжеты в сибирском тексте
Автор: Богумил Татьяна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье описаны и систематизированы библейские сюжеты, характерные для сибирского текста русской культуры. Освоение Сибири сопровождалось христианизацией ее автохтонов. Влияние церкви на становление местной литературной традиции было очень сильным. Региональная специфика Сибири (природа, история, этнос) повлияла на отбор библейских мотивов и сюжетов в произведениях об этом пространстве. Компаративистский подход позволил выявить и хронологически упорядочить следующие парадигматичные для сибирского текста библейские сюжеты: апостольский / миссионерский, христологической инициации, исхода, о блудном сыне. Связанные с Сибирью библейские сюжеты с течением времени подвергались инверсии, религиозная семантика вытеснялась иными темами. Ядро, объединяющее эти сюжеты и мотивы, - идея преображения (себя, другого человека, пространства). Гипотетически, у каждого сюжета есть свой период максимальной продуктивности, сменяемый спадом. Миссионерский сюжет и сюжет христологической инициации актуализировались в XVII в. и были продуктивны до конца XIX в. Сюжет поиска Беловодья, изоморфный исходу евреев из Египта, возник на излете XVIII в. и активно существовал до конца ХХ в. Мотив блудного сына был востребован в середине XIX в. в творчестве областников и, позднее, их наследников - младообластников и «деревенщиков». Процессы глобализации и информатизации, стирание пространственных и культурных границ постепенно делают этот сюжет неактуальным. Возможно расширение спектра библейских образов, мотивов и сюжетов за счет привлечения нового материала.
Мотив, апостольский сюжет, инициация, беловодье, исход из египта, сюжет о блудном сыне
Короткий адрес: https://sciup.org/147227223
IDR: 147227223 | УДК: 821.161.1+801.73 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8742
Текст научной статьи Библейские сюжеты в сибирском тексте
С ибирский текст является одним из локальных сверхтекстов русской, исконно христианской, литературы. Региональная специфика Сибири, обусловленная ее природными, историческими, этническими, социально-экономическими и прочими характеристиками, повлияла на отбор библейских мотивов и сюжетов в произведениях о Сибири. Цель данного исследования — описать и систематизировать сюжетно-образный пласт христианской культуры, актуальный для сибирского текста.
«Крещение явило Древней Руси и письменность, и литературу. <…> дало идеал и предопределило содержание русской литературы», — писал В. Н. Захаров [Захаров: 6]. Церковь выступала движущей силой колонизации Сибири, поэтому влияние ее на становление местной литературной традиции оказалось решающим. В первых сибирских произведениях — летописях и хронографах XVII в. — сформировался образ Сибири-Эдема [Анисимов: 51–53]; в Есиповской летописи (1636) возник сюжет об апостольской миссии похода Ермака, провиденциальная цель которого — не просто завоевать землю, но христианизировать ее население и приобщить к русской святости [Чмыхало: 108–110; Ромодановская: 97, 105–106, 120–123]. Параллельно в фольклоре зарождался сюжет о Ермаке — раскаявшемся грешнике . Образ Сибири как пространствa ада , «мифологической страны мертвых » [Тюпа: 27] (холод, каторга, ссылка) впервые возник в другом прецедентном для сибирской словесности произведении — «Житии протопопа Аввакума, им самим написанном» (XVII в.). Автобиографию глава старообрядческой оппозиции Аввакум Петров (1620–1682) строит по канону «христологической инициации» [Тюпа: 29]. В конце XVIII — начале XIX в. зародилась легенда о Беловодье, праведной земле на востоке Российской империи. Бегство староверов от власти «антихристова» государства уподоблено исходу евреев из египетского плена [Сморгунова]. В жизнет-ворчестве и произведениях областников (середина XIX в.) актуальным оказался сюжет о блудном сыне , реализующийся как возвращение интеллигента после обучения в столице на родину [Анисимов: 175].
Обозначенный круг сюжетов парадигматичен для всей совокупности произведений о Сибири. Корпус сочинений на сибирскую тему достаточно велик. Так, только за 100 лет, с 1800 по 1900 г., было опубликовано 778 художественных произведений по данной тематике [Сибирская тема…]. Понятно, что в настоящем обзоре охватить весь объем текстов не представляется возможным, поэтому в статье лишь намечены трансформации изначальных сюжетов в исторической перспективе.
Апостольский сюжет понимается здесь расширительно, как миссионерский сюжет, т. е. поведенческая стратегия, обусловленная стремлением выполнить поручение Христа: «…идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф. 28:19). Закрепившись за сибирским локусом в летописаниях о деяниях Ермака, мотив апостольского служения продолжал активно функционировать в церковной литературе вплоть до XIX столетия. В мемуарах православного духовенства неохватные и всем изобильные сибирские просторы одолевает тем не менее «глад неслышания Божия» [Инок Парфений: 152]. Согласно наблюдениям С. Ф. Мельниковой, в XIX в. именно Сибирь «открывала пространство для духовного подвига», где миссионер «активно преображает действительность, проповедуя Слово Божье». В результате, к примеру, автобиография преосв. Вениамина (Благонравова; 1825–1892) тяготеет к канону святительского жития, где архиепископ выступает как миссионер и креститель бурят, храмостроитель и чудотворец с Божьей помощью [Мельникова: 71–73].
Радикальное переосмысление этот сюжет, ставший к тому времени традиционным для сибирского текста, получил в повести Н. С. Лескова «На краю света» (1875), написанной после знакомства писателя с записками и устными рассказами Нила (Исаковича; 1799–1847), архиепископа Иркутского, впоследствии Ярославского [Лесков: 618–619]. Архиепископ Лескова вспоминает о своей юности: будучи епископом в отдаленной сибирской епархии, он рьяно выполнял свой долг, чувствуя духовное превосходство над некрещеными инородцами. Испытания, выпавшие на его долю, когда он чуть не погиб в якутской снежной пустыне и спасся только благодаря самоотверженной и бескорыстной помощи «самоеда», заставили его многое переосмыслить. Епископ понял, почему отец Ки-риак отказался от крещения «скорохватом» [Лесков: 470]: ведь, действительно, «Божие дело своей ходой без суеты идет» [Лесков: 474], иной «нехристь», не осознавая того, ведет себя как подлинный святой, а наспех крещеный — как негодяй. Ибо «есть великая тайна врожденной веры, которая как бесценный редкий дар дается простой душе человека» [Дулова]. Блуждание по якутской земле, по мнению Н. В. Дуловой, содержит аллюзию на сорокалетнее скитание израильтян по пустыне. Вот только епископ соотносится отнюдь не с пророком Моисеем: «…это испытание его веры, его духовной стойкости, его любви к человеку, его миссионерских идей» [Дулова]. В результате в якуте ему «открылся святой лик человека, перевернувшего его представления о церковных догмах» [Дулова]. Так миссионерская деятельность меняет точку своего приложения: от аборигена к самому проповеднику. Апостольский сюжет формализованного крещения «огнем и мечом», а также водкой, подкупом, etc. возвращается в подлинно христианскую систему координат, где главная заповедь — любовь к Богу, себе и ближнему.
Следует отметить, что трансформации, произошедшие в повести Н. С. Лескова с апостольским сюжетом, вызваны не только жизненным опытом прототипа главного героя, но и литературной традицией, восходящей к концепции «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо. В творчестве русских романтиков дикарь перевоплотился в невинное «дитя природы». «Туземца могли упрекать за поедание тухлой рыбы, дурное обращение с женой и умерщвление престарелых родителей, но его нельзя было не похвалить за простоту, великодушие и терпение. Подобное сочетание презренного и прекрасного стало каноническим в начале века и оставалось общепринятым более ста лет» [Слёзкин: 100]. Собственно, этот канон и реализовался в произведении Лескова.
Эквивалентом церковного миссионерского мотива в светской литературе XIX века был, как видится, просветительский мотив «влияния политического ссыльного на юного героя- сибиряка», актуализированный жизнью и творчеством пред-областников и областников [Анисимов: 187–190]. Очередной пик использования сюжета просветительского типа пришелся на 1920–1950-е гг. В революционном романе-эпопее Вс. В. Иванова, В. Я. Шишкова, К. Ф. Седых, Г. М. Маркова и др. «преобразовывались и “дикость” аборигенов, и непросвещенность переселенческого крестьянства, и классовая несправедливость прежнего социального устройства» [Рыбальченко]. Акцент смещается в литературе «оттепели»: с непросвещенного социума на докультурное пространство, требующее окультуривания. Архаичная основа романа об освоении Сибири как процессе космотворения была востребована до 1970-х гг. [Рыбальченко].
Фольклорный сюжет о Ермаке — раскаявшемся грешнике 1 , по замечанию К. В. Анисимова, оказался более продуктивным в светской литературной традиции, нежели летописный сюжет о Ермаке — христианском герое. В ряде исторических песен поход Ермака выполняет искупительную функцию. Зародившись в XVI столетии, представление о Сибири, преобразующей человека, просуществовало века [Анисимов: 67]. В литературу данный вариант сюжета о Ермаке попал через посредничество Н. М. Карамзина, который в IX томе «Истории государства Российского» (1821) «придерживался версии <…> о разбойничестве Ермака и искуплении им своей вины победой над Кучумом» [Анисимов: 80]. Историк завершает свой рассказ рассуждениями о ссылке, где «наказание преступника высылкой его в Сибирь становится <…> повседневным вариантом эволюции героя (преступление — раскаяние — возрождение), которую когда-то в качестве первого и потому уникального случая реализовал со своими дружинниками Ермак» [Анисимов: 82].
В филологии впервые обозначил эту литературную традицию Ю. М. Лотман. Согласно его наблюдениям, в ряде произведений русской классической литературы Сибирь, место ссылки и каторги, предстает как пространство «гражданской смерти» и последующего духовного возрождения. Сюжетное звено «преступление (подлинное или мнимое) — ссылка в Сибирь — воскресение» является вариантом схемы «смерть — ад — воскресение» [Лотман: 723–725]. Идеи Ю. М. Лотмана развил и уточнил В. И. Тюпа: «Это вообще отнюдь не инфернальный хронотоп окончательной и бесповоротной смерти, но скорее богоугодное место временной смерти: лиминальный (пороговый) хронотоп смертельного испытания» [Тюпа: 28]. Истоки концептуализации Сибири как лиминальной фазы архаичного сюжета инициации лежат в «Житии» протопопа Аввакума. Окончательно прикрепление сюжета инициации к пространству Сибири произошло благодаря повторению контуров «христологической инициации» [Тюпа: 29] главы старообрядцев в жизни декабристов. В 30–50-e гг. XIX века сибирская беллетристика активно эксплуатировала романтический сюжет о духовном возрождении через кризис посредством благотворного влияния сибирской среды: «…в общении с девственной природой, с наивными и добрыми туземцами, в уединенных раздумьях о смысле жизни озлобленный на весь мир человек постепенно “оттаивает” и как бы “воскресает”» [Спиридонова: 139–140]. Наличие инвариантной для сибирского текста сюжетной схемы характерно и для «вершинных» произведений русской реалистической словесности — например, дилогии Н. А. Некрасова «Русские женщины», творчества Ф. М. Достоевского («Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание»), романа Л. Н. Толстого «Воскресение», рассказа А. П. Чехова «В ссылке» и др. [Тюпа; Габдуллина; Шатин, 2016].
Вновь образ Сибири-каторги актуализировался в «лагерной прозе» 1950–1970-х гг., но сюжет инициации претерпел существенные изменения. По наблюдениям Т. Л. Рыбальченко, в романах В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», А. Битова «Пушкинский дом», Э. Радзинского «Лунин, или Смерть Жака», в «колымских рассказах» В. Шаламова преображения человека не происходит: «лагерная проза редуцировала христианскую мифологему воскресения, духовного возрождения» [Рыбальченко].
В литературе постмодернизма авторы «играют» традиционным образом Сибири (рай / ад) и сюжетом преображения (пространства / человека). Так, в «Повести о трижды герое Советского Союза Алексееве» концептуалиста Д. Пригова
Сибирь является локусом пародийно нагнетаемых смертельных испытаний. Финальным этапом инициации становится трансформация тела Алексеева (протезы вместо ног). Из Сибири начинается триумфальный путь преображенного героя на Запад. В Берлине он посмертно канонизируется и замещается статуей «Воину-освободителю». Пригов демонстрирует превращение тела в текст, а человека — в знак. Концептуалист обнаруживает аналог подобной текстопорождающей стратегии в традиционалистской культуре: «Повесть…» строится аналогично средневековому житийному канону. Подобно древнерусской культуре, где пространство обладало религиозно-моральным значением, в соцреалистическом романе сохраняется социально-политическая семиотика географии. Наложение древнерусской и соцреалистической поэтики в пределах произведения Д. Пригова превращает Сибирь в текст-палимпсест.
Как видим, связанные с Сибирью библейские сюжеты с течением времени подвергались инверсии, теряли свою религиозную семантику: она вытеснялась социальными, политическими, психологическими и другими темами. Ядро, позволяющее объединять эти сюжеты и мотивы, — идея преображения (себя, другого человека, пространства), что, впрочем, и есть функция любого мотива [Силантьев: 15]. Гипотетически, у каждого сюжета есть свой период максимальной продуктивности, сменяемый спадом. Религиозный сюжет поиска Беловодья, о котором сейчас пойдет речь, продержался дольше, чем миссионерский сюжет или сюжет «христоло-гической инициации»: не до конца XIX в., а до второй половины ХХ в. Но он и возник на столетие позже: не в XVII, а на излете XVIII в.
Первые данные о существовании среди старообрядцев легенды о Беловодье датируются концом XVIII — началом XIX в. Социально-утопическая идея о праведной земле на востоке страны, куда можно попасть, если знаешь сокровенный маршрут, стимулировала миграцию и освоение Сибири русским крестьянством [Чистов: 448–449; Дутчак]. Генетически легенда связана с распространенными у многих народов мира представлениями о «далекой земле» и «золотом веке», т. е.
является вариантом «утопии места» [Чистов: 11]. Е. М. Смор-гунова указала на изоморфизм библейского Исхода евреев из египетского плена с целью обретения Земли Обетованной и бегства староверов из наступающего царства Антихристова в Беловодье / Китеж. «Сравнение с Библейским Исходом — существенная часть идеологии староверия и самосознания староверами своего рассеяния», — отмечает исследовательница [Сморгунова: 209]. Структурно-семантические параметры легенды определяются основными концептами конфессиональной миграции: «исход — дорога — обретение» [Дут-чак: 86]. Известно, что во второй половине XVIII в. Беловодье локализовалось в Бухтарминской и Уймонской долинах на Алтае [Чистов: 307–308]. После официального вхождения общины «каменщиков» в состав России «закончилась история реального Беловодья и началось ее мифическое продолжение» [Дутчак: 87], «утопия места» переместилась дальше на восток.
В русскую литературу легенда о Беловодье проникает в конце XIX в. [Чистов: 327, прим. 99]. Эмблематичной темой сибирского текста Беловодье стало в трудах областников Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева. Активизация легенды в старообрядческой среде приходилась на кризисные моменты истории, «стимулировавшие обращение старообрядцев к привычным эсхатологическим и утопическим мотивам» [Савоскул: 211]. Аналогичная тенденция прослеживается и в литературе. Первая мощная волна интереса к Беловодью наблюдается в литературе первой трети ХХ в. [Папкова]. Во второй половине ХХ в. в произведениях писателей-традиционалистов Беловодье является одной из базовых мифологем. Однако теперь на первый план выходит эсхатологическая идея гибели «земного рая» [Ковтун, 2017: 84–95, 263–280, 539–569]. В литературе рубежа ХХ–XXI веков беловодский миф ослабляет связь с локусом Сибири, превращаясь в концепт: «воплощение русского мира, вобравший святыни прошлого, малую родину, деревню и город, саму национальную историю со времен Грозного и вплоть до конца ХХ столетия» [Ковтун, 2015: 189]. В последнее время Беловодье стало достоянием псевдоэзотерических спекуляций, массовой и сетевой литературы, медиапроектов, туристическим брендом.
В романе алтайского писателя В. Н. Токмакова «Запретная книга Белого Бурхана» (Барнаул, 2017) найденная заповедная страна оборачивается симулякром утопии. После разрушения «Бурханостана» возникает проект нового Беловодья «с кулаками», что, конечно, далеко от идеала старообрядцев [Богумил: 96–98].
В жизнетворчестве областников (середина XIX в.) актуальным оказался сюжет о блудном сыне , реализующийся как возвращение интеллигента после обучения в столице на родину. Сознательно выстраиваемая биография влияла на литературно-критические взгляды сибирских писателей, типологию героев и сюжетные модели текстов областников [Анисимов: 175]. Характеризуя идиллический хронотоп, М. М. Бахтин писал: «В областническом романе иногда появляется герой, отрывающийся от локальной целостности, уходящий в город и либо погибающий, либо возвращающийся как блудный сын в родную целостность» [Бахтин: 379]. А. П. Казаркин настаивает на обязательности этого сюжета: «возвращение блудного сына — лейтмотив (курсив мой. — Т. Б .) областной эпопеи» [Казаркин: 114]. Актуализация этого «вечного», «архетипического» мотива мировой литературы каждый раз связана с изменениями его структурных компонентов [Шатин, 1996: 40]. В частности, для сибирской литературы данный сюжет стал востребованным в тот исторический момент, когда зародилось региональное самосознание, возникло представление о Сибири как «своем» пространстве, в которое следует вернуться. Тем самым продуктивная фаза сюжета о блудном сыне синхронизирована с зарождением и дальнейшим существованием собственно сибирской литературы [Закаблукова; Костылева].
В середине ХХ века в творчестве сибирских «деревенщиков» и поэтов-шестидесятников зафиксирован очередной «всплеск» регионального самосознания, что закономерно вылилось в обращение к сюжету о блудном сыне. На этот раз он предстал как мотив возвращения из города в деревню. К примеру, в ностальгическом рассказе А. П. Соболева «Тополиный снег» (1978) иллюзии, сманившие юношу с родных мест в малые и большие города, со временем рассеялись, а «отчий край», «родимые места» стали «землей обетованной»
[Соболев 2012: 21], куда и возвращается рассказчик. Сначала временно — на лечение в Белокуриху, потом мысленно — в процессе написания произведения, наконец, посмертно — А. П. Соболев похоронен в с. Смоленском под г. Бийском.
Известно, насколько важной была идея возвращения на Алтай для В. М. Шукшина. Между тем писатель отдавал себе отчет, что уход из родных мест был необходим для его становления и самореализации. Так, в автобиографическом цикле В. М. Шукшина «Из детских лет Ивана Попова» (1968) отношение рассказчика к городу радикально меняется от первого к последнему рассказу. К финалу город становится для повзрослевшего подростка тем, чем он был для его родителей — пространством открывающихся возможностей. Задается иной вектор пути, чем в первом рассказе: не из деревни в город и обратно, а из деревни в город и дальше, в иные города и страны.
Необходимость ухода, мотивированность его не просто произволом, но человеческим естеством тонко обозначена в стихотворении современного алтайского поэта Л. Мерзликина «Блудный сын»:
«Блудным сыном древнего сказанья, Жертвою скитаний и дорог
Я пришел к тебе на покаянье, Позабытый всеми уголок.
И стою, как будто бы нездешний, До кровинки здешний человек… Улетели птицы из скворечни. Скоро ночь. А ночью будут снег»2.
Архетипический образ блудного сына, с которым сопоставлен лирический субъект, возвышает частную ситуацию до общечеловеческого уровня. Между тем канонический сюжет претерпевает определенные изменения. Сакральная фигура Отца / Бога замещена пространством малой родины. Заключительное двустишие, как и зачин, привносит в уникальную ситуацию повторяемость, которая мотивируется по-новому — не культурой, но природосообразностью. Люди уходят из родного «уголка», подобно птицам, улетающим из скворечников, но птицы возвращаются, и люди — тоже. Таков закон природы и закон социума. Ночь и снег, сохраняя рефе-рентность с действительностью, одновременно прочитываются как метафоры конца. Благодаря тому, что это элементы суточного и годового природного циклов, трагичность неминуемого для каждого человека финала снижается, возникает надежда на преодоление своего предела.
Подводя итог неизбежно избирательному обзору базовых для сибирского текста библейских сюжетов, следует отметить, что ими, конечно, обращение авторов к Библии не ограничивается. К примеру, в романе Л. Улицкой «Лестница Якова» (2015) в орбиту сибирского текста вовлекаются менее частотные для него мотивы. Помимо очевидной отсылки к Иакову, родоначальнику колен Израилевых, в эпизоде лечения героя, больного экземой — «проказой», активизируется сюжет об Иове. Тем самым возможно расширение спектра библейских образов, мотивов и сюжетов, входящих в сибирский текст русской литературы.
Примечания
-
1 Был ли реальный Ермак разбойником — дискуссионный вопрос. Обзор имеющихся точек зрения на эту проблему см.: [Анисимов: 60–66]. Формирование легендарной биографии обусловлено пространством Сибири: «…периферийность культурного ландшафта Сибири оказывалась родственной социальной маргинальности Ермака как героя» [Анисимов: 68].
-
2 Мерзликин Л. С. Избранное: стихотворения и поэма. Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1997. С. 200.
Список литературы Библейские сюжеты в сибирском тексте
- Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX веков: особенности становления и развития региональной литературной традиции. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2005. — 304 с.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. — С. 234-407.
- Богданова А. А. Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX века (1800-1900 гг.): учеб.-библиогр. справ. для преподавателей, студ., работников печати, краеведов / сост. А. А. Богданова; под ред. В. А. Цыбенко; Новосиб. гос. пед. ин-т. — Новосибирск: [б. и.], 1970. — 53 с.
- Богумил Т. А. Беловодье: легенда, мифологема, бренд // Культура и текст. — 2018. — № 3 (34). — С. 89-102.
- Габдуллина В. И. Мотив смерти — воскресения в сибирском тексте Ф. М. Достоевского // Сюжетология и сюжетография. — 2015. — № 2. — С. 101-108.
- Дулова Н. В. Сибирь как испытание души (А. Коцебу, Н. С. Лесков) // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства / науч. ред. И. И. Плеханова. — Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. ун-та, 2004 [Электронный ресурс]. — URL: http://mion.isu.ru/filearchive/ mion_publcations/sbornik_Sib/ (08.07.2020).
- Дутчак Е. Е. Путь в Беловодье (к вопросу о современных возможностях и перспективах изучения конфессиональных миграций) // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. История России. — 2006. — № 1 (5). — С. 81-94.
- Закаблукова Т. Н. Мотив «блудного сына» в романе-эпопее Г. Д. Гребенщикова «Чураевы» // Алтайский текст в русской культуре / под ред. Т. Г. Черняева, Н. В. Халина. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. — Вып. 3. — С. 12-17.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУУ 1994. — Вып. 3. — С. 5-11 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/journal/article. php?id=2370 (08.07.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370
- Инок Парфений (Агеев). Автобиография высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского. — Иркутск: Электро-типография т-ва «М. П. Окунев и Ко», 1913. — 52 с.
- Казаркин А. П. Проза Сибири в ХХ веке // Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания / Б. Ф. Егоров, Н. В. Моравский, В. М. Кулемзин и др.; сост., науч. ред. и авт. вступ. ст. А. П. Казаркин. — Томск: Сибирика, 2003. — С. 97-119.
- Ковтун Н. В. «Беловодский метатекст» в современной русской прозе (к постановке проблемы) // Сибирская идентичность в зеркале литературного текста: тропы, топосы, жанровые формы XIX-XXI веков. — М.: Флинта: Наука, 2015. — С. 153-189.
- Ковтун Н. В. Русская традиционалистская проза XX-XXI веков: генезис, мифопоэтика, контексты. — М.: Флинта: Наука, 2017. — 600 с.
- Костылева И. А. Концепция личности В. М. Шукшина в романе-биографии А. Варламова «Шукшин» // Вестник Костромского гос. ун-та. — 2019. — Т. 25. — № 2. — С. 171-175.
- Лесков Н. С. На краю света // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. — М.: ГИХЛ, 1957. — Т. 5. — С. 451-517.
- Литературная мифология Алтая: коллективная монография / Е. А. Ху-денко, А. И. Куляпин, Т. А. Богумил, Н. И. Завгородняя. — Барнаул: Изд-во АлтГПУ 2019. — 178 с.
- Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. О русской литературе. — СПб.: Искусство-СПб, 1997. — С. 712-729.
- Мельникова С. В. Мемуары сибирского православного духовенства XIX века и областная сибирская литература // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. — Вып. 10. — С. 67-76 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf7l457952183.pdf (08.07.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2012.341
- Папкова Е. А. «Беловодье» Михаила Плотникова: русская литература 1-й трети ХХ века в поисках крестьянского рая // Сибирские огни. — 2011. — № 3. — С. 133-140.
- Ромодановская Е. К. Сибирь и литература. XVII век. — Новосибирск: Наука, 2002. — 390 с.
- Рыбальченко Т. Л. Мифологемы образа Сибири в русской прозе второй половины ХХ века // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства / науч. ред. И. И. Плеханова. — Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2004 [Электронный ресурс]. — URL: http://mion. isu.ru/filearchive/mion_publcations/sbornik_Sib/ (08.07.2020).
- Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. — М.: Языки славянской культуры, 2009. — 224 с.
- Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / авторизов. пер. с англ. О. Леонтьевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 512 с.
- Сморгунова Е. М. Библейский Исход и рассеяние русских староверов: некоторые изоморфные черты // От бытия к Исходу: отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народных культурах. — М.: ГЕОС, 1998. — Вып. 2. — С. 208-219.
- Спиридонова Г. С. Проблемы типологии сюжетов в литературе Сибири XIX века : дис. ... канд. филол. наук: специальность 10.01.01. — Красноярск, 2000. — 176 с.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. — 2002. — № 1. — С. 27-35.
- Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. — 539 с.
- Чмыхало Б. А. Художественное пространство в сибирском летописании XVII века // Научный ежегодник Красноярского государственного педагогического университета. — 2001. — Вып. 2. — Т. 1. — С. 107-116.
- Шатин Ю. В. Архетипические мотивы и их трансформация в новой русской литературе // «Вечные» сюжеты русской литературы («блудный сын» и другие) / под. ред. Е. К. Ромодановской, В. И. Тюпы. — Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 1996. — С. 29-41.
- Шатин Ю. В. Путешествие Нехлюдова в Сибирь. К проблеме инициации // Сибирский филологический журнал. — 2016. — № 2. — С. 11-15.