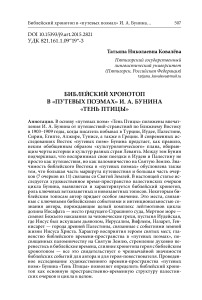Библейский хронотоп в «путевых поэмах» И. А. Бунина «Тень птицы»
Автор: Ковалева Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В основу «путевых поэм» «Тень Птицы» положены впечатления И. А. Бунина от путешествий-странствий по Ближнему Востоку в 1903-1909 годы, когда писатель побывал в Турции, Иудее, Палестине, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, а также в Греции. В современных исследованиях Восток «путевых поэм» Бунина предстает, как правило, неким обобщенным образом «культурологического» плана, вбирающим черты истории и культур разных стран Леванта. Между тем Бунин подчеркивал, что воспринимал свои поездки в Иудею и Палестину не просто как путешествия, но как паломничество на Святую Землю. Значимость библейского Востока в «путевых поэмах» обусловлена также тем, что большая часть маршрута путешествия и большая часть очерков (7 очерков из 11) связаны со Святой Землей. В настоящей статье исследуется художественное время-пространство палестинских очерков цикла Бунина, выявляется и характеризуется библейский хронотоп, роль ключевых ветхозаветных и новозаветных топосов. Некоторым библейским топосам автор придает особое значение. Это места, связанные с ключевыми библейскими событиями и интенциональностью сознания автора, порождающие целый комплекс лейтмотивов цикла: долина Иосафата - место грядущего Страшного суда, Мертвое море - символ Божьего наказания за человеческие грехи, пустыня Иудейская, где Иисус был искушаем дьяволом, Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Геннисарет - города древней Палестины, связанные с событиями земной жизни Иисуса Христа. Характер восприятия героем святых мест, главенство библейского времени-пространства в «путевых поэмах», посвященных паломничеству на Святую Землю, стремление духовно перенестись в библейские времена, слияние хронотопа героя с библейским хронотопом - все это свидетельствует о чрезвычайной значимости библейских событий для автора и для героя-повествователя. Проведенное исследование художественного времени-пространства «путевых поэм» Бунина «Тень Птицы» позволяет определить библейский хронотоп как основную пространственно-временную структуру палестинских очерков и цикла в целом.
И. а. бунин, "путевые поэмы" "тень птицы", библейский восток, паломничество, святая земля, ветхозаветные и новозаветные топосы, хронотоп героя, библейский хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/14748945
IDR: 14748945 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2821
Текст научной статьи Библейский хронотоп в «путевых поэмах» И. А. Бунина «Тень птицы»
В о снову «путевых поэм» «Тень Птицы» положены впечатления И. А. Бунина от путешествий-странствий по
Ближнему Востоку в период с 1903 по 1909 год, когда писатель побывал в Турции, Иудее, Сирии, Палестине, Египте, Алжире, Тунисе, а также в Греции. Рассказы цикла, выходившие в свет с 1908 по 1915 год, сразу привлекли внимание критиков. Так, Ю. И. Айхенвальд особо отметил мастерски нарисованные восточные картины и стиль «путевых поэм»: «Его пленяет Восток, “светоносные страны”, про которые он с необычайной красотою лирического слова вспоминает теперь... Для Востока, библейского и современного, умеет Бунин находить соответственный стиль, торжественный и порою как бы залитый знойными волнами солнца, украшенный драгоценными инкрустациями и арабесками образности, и когда речь идет при этом о седой старине, теряющейся в далях религии и мифологии, то испытываешь такое впечатление, словно движется перед нами какая-то величавая колесница человечества...» [1, 119].
Почти фотографическую точность описаний и великолепный стиль отмечает в «путевых поэмах» П. А. Нилус: «Бунин <…> описывает свои путешествия с невероятной роскошью живописных подробностей. Его Палестинские картины разворачиваются как чудесные восточные ковры. <...> и было что-то почти материальное в изображении этих путевых картин, списанных точно с натуры» [14, 433].
В современных исследованиях Восток «путевых поэм» Бунина представлен как обобщенный образ «культурологического» плана, вбирающий черты истории и культур разных стран Леванта.
Так, А. В. Громов-Колли называет «пафосом всего цикла, его тональностью обращение к ушедшим векам, попытку воссоздания исторической атмосферы с помощью воображения и литературных источников» [6, 38]. В. Крапивин, характеризуя восточную тему в прозе Бунина, пишет, прежде всего, об индо-буддийском Востоке. Обращаясь к циклу «Тень Птицы» и касаясь при этом лишь двух очерков («Тень Птицы» и «Храм Солнца»), он также дает общефилософскую характеристику образа Востока: «…здесь границы размыкаются в безграничность» [11, 146]. Исследователи отмечают также, что «Бунин создает синкретичный, сложный по концепции образ Востока как единой духовной общности, которую образуют иудейско-христианский Восток: Иудея, Палестина Христа — и мусульманский Восток» [9, 53].
Между тем Бунин подчеркивал, что воспринимал свои восточные поездки не просто как путешествия, но как паломничество на Святую Землю. Об этом он напишет позднее в лирико-философском эссе «Роза Иерихона»: «Совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во Святую Землю Господа нашего Иисуса Христа» 2 . Это признание Бунина является одновременно и указанием автора на то, какое большое значение имеет библейский Восток в «путевых поэмах». Поэтому исследование библейских образов и мотивов, библейского хронотопа представляется весьма важным для верного понимания цикла «Тень Птицы».
Ведь хронотоп как существенная взаимосвязь пространственно-временных отношений имеет особое значение для воссоздания бытийной концепции, модели мира, ключевых идей автора художественного произведения (см.: [2], [4], [7], [8], [10], [12], [16]). М. М. Бахтин выразил эту значимость хронотопа в замечательной формуле как один из законов глубокого изучения художественного текста: «Всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [2, 290].
Звучание библейской темы в «Тени Птицы» отметил еще в начале ХХ века П. А. Нилус, подчеркнув, что в нарисованных Буниным картинах «…каждая подробность обвеяна трогательной любовью ко Христу, а автор кажется смиренным пилигримом, со всевидящей душой художника...» (14, 433).
В настоящее время важную роль библейских образов и мотивов в «Тени Птицы» отмечали О. А. Бердникова [3],
А. А. Пронин [15], А. Л. Латухина [13]. Однако исследователи касались при этом лишь некоторых очерков и отдельных библейских образов и мотивов.
Характеризуя пространственно-временную структуру цикла, А. Л. Латухина выделяет в «путевых поэмах» Бунина три вида хронотопа: «хронотоп путешествующего героя», «историко-культурный хронотоп» и «мифопоэтический хронотоп» [13, 12], не выявляя библейского хронотопа, что существенно влияет на характеристику историософской концепции Бунина, приводя исследователя к неточным и неполным выводам. Соглашаясь в целом с концепцией А. Л. Латухиной, мы считаем такую характеристику художественного времени-пространства цикла неполной и выделяем библейский хронотоп.
Значимость библейского Востока, библейской темы в «путевых поэмах» Бунина обусловлена уже тем, что большая часть маршрута путешествия и большая часть очерков (7 из 11) связаны со Святой Землей. Кроме того, нужно принять во внимание, что первоначально центральным в цикле был большой очерк «Иудея», включавший в себя в первой публикации 1910 года очерки «Камень» и «Шеол», позднее выделенные в самостоятельные рассказы цикла (3, 663). Необходимо также отметить, что Бунин особо выделял «Иудею» в своем творчестве, подчеркивая значимость библейской темы в «путевых поэмах». Так, посылая этот очерк Н. Д. Телешову, Бунин писал 1 августа 1909 года: «Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора» (14, 586). Для верного и глубокого понимания авторской концепции цикла «Тень Птицы» это признание Бунина не просто должно быть принято во внимание, оно должно стать основополагающим.
Итак, обратимся к очерку «Иудея» — первой из палестинских «поэм» и центральному очерку цикла, совершенно не исследованному до настоящего времени. Вместе с автором мы погружаемся в глубь веков, в библейское время-пространство, проходим по памятным ветхозаветным и новозаветным местам, образы которых помогают воссоздать знаковые библейские топосы и топонимы: Иудейская долина,
Иерусалим, улица Давида, водоем пророка Иезекии, пещера Иеремии, Стена Плача, храм Соломона, Камень Помазания, храм Гроба Господня, Голгофа, долина Иосафата, пустыня дьявола, Хеврон, камень Мориа, Назарет, Вифлеем, Генниса-рет… «Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?» — невольно восклицает герой очерков, переполненный впечатлениями (3, 561). «Это как бы овеществление Библии», — записала в своем дневнике во время поездки с мужем по святым местам В. Н. Муромцева-Бунина 2 . Отмечая глубокое знание и понимание Буниным Ветхого Завета и насыщенность его «путевых поэм» знаками Священной истории, профессор П. Бицилли писал: «Никакой реально-исторический комментарий к Библии не дает столько, сколько маленькая книга Бунина» [5, 494].
Описывая свой приезд на библейскую землю, автор-повествователь неоднократно подчеркивает, с каким волнением начинает он свое путешествие по Иудее. Для него это настоящее погружение в библейские времена! «Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют одним и тем же; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; из-маилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!» (3, 540).
Желание ощутить себя в библейских временах настолько сильно, что в самом начале поездки путешественник переживает почти по-детски наивное разочарование, вызванное несовпадением современной действительности Иудеи с собственными представлениями и картинами ее легендарного прошлого. Всматриваясь в окружающий мир, в окрестности, он восклицает: «Только где же те “бездны”, которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где те высоты, что будто бы “еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти”?» (3, 541). «Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер — и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования?» — пишет повествователь, видя «новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня», «оборванных извозчиков — евреев и арабов», «дряхлый, гремящий всеми болтами и гайками фаэтон» (3, 542). Однако от разочарования не остается и следа, когда Бунин с волнением и трепетом узнает и описывает священные места, связанные с библейскими событиями. Так, проезжая через Иудейскую долину, «усыпанную круглыми голышами», автор вспоминает историю из Ветхого Завета о Давиде и Голиафе: «Это именно здесь, в одной из этих котловин, “взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа”…» (3, 541).
Такое же волнение вызывают у повествователя и другие библейские места, картинами которых предельно насыщены палестинские «путевые поэмы» Бунина. Одни из них лишь упоминаются, другие лаконично, но ярко описаны, как, например, Хеврон — одно из самых древних святых мест Ветхого Завета, связанных с Авраамом: «Близ Хеврона Аврааму было явление Бога в виде трех Ангелов, здесь жили его сын Исаак и внук Иаков» 2 , «почиют Авраам и Сарра — прах, равно священный христианам, мусульманам и иудеям» (3, 546).
Но некоторым библейским топосам автор придает особое значение: они описываются подробно, неоднократно упоминаются в очерках, передаются вызванные ими мысли, чувства, переживания. Это места, связанные с ключевыми библейскими событиями и интенциональностью сознания автора, порождающие целый комплекс лейтмотивов цикла: долина Иосафата — место грядущего Страшного суда, Мертвое море — символ Божьего наказания за человеческие грехи, пустыня Иудейская, где Иисус был искушаем дьяволом, — символ испытаний, Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Геннисарет — города древней Палестины, связанные с жизнью, учением, распятием, Воскресением и Вознесением Иисуса Христа.
Несомненно, одним из центральных топосов «путевых поэм» Бунина является Иерусалим — главный город древней Палестины, где каждый камень говорит о событиях Священной истории. В воссоздании его образа Бунин подчеркивает несокрушимость, вечность: «Иерусалим, устроенный, как одно здание», «первобытно-простой, первобытно-грубый по кладке», «заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым» (3, 520). Во II части очерка «Иудея» Бунин настолько зримо описывает Иерусалим, что создается ощущение полного присутствия в древнем городе, время современности почти исчезает.
Кульминацией паломничества в Иерусалим является посещение храма Гроба Господня и Голгофы. В деталях описания чувствуется внутреннее состояние повествователя, вспоминающего страдания и крестные муки Христа. В восприятии Бунина купола храма Гроба Господня и Голгофы не синие, а «черно-синие», «тяжкие», траурные, даже камни храмов под тяжестью горя кажутся вросшими в землю. «Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус?» — эти слова, невольно вырвавшиеся у повествователя при виде храма Гроба Господня и Голгофы, передает то глубокое потрясение, которое он переживает (3, 543).
Храм Гроба Господня и Голгофу Бунин воспринимает как пространства смерти и величайшей из трагедий. Описания этих мест наполнены знаками глубокой скорби, страшного, неизбывного горя, траура: «Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи... Сумрачны стали купола Мечети и Гроба» (3, 544). Душевная боль, которую переживает автор, вспоминая крестные муки и смерть Спасителя настолько велика, что появляются кощунственные мысли о богоостав-ленности мира: «Темным ветхозаветным богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет, — даже и ветхозаветного бога здесь нет: только веянье Смерти… Место могилы Иисуса задавлено чернокупольными храмами. Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов... “Се оставляется вам дом сей пуст...”» (3, 544). Эта почти дословная цитата из Евангелия от Матфея (в Библии: «дом ваш пуст») (Мф. 23:38) представляет собой слова Христа, обращенные к книжникам и фарисеям Иерусалима, которые «затворяли Царство Небесное человекам» и «хотящих войти не допускали» (Мф. 23:13), не принимая пророческих проповедей и вестей, которые нес Спаситель. Поэтому ветхозаветная Иудея представляется Бунину «полем мертвых», «могилой». Об этом говорит и эпиграф к очерку «Иудея» из Иезекиили: «И Господь поставил меня посреди поля, и оно было полно костей» (3, 539).
Однако в «путевых поэмах» Бунин не просто передает свои впечатления от соприкосновения со Святой Землей. Писатель предстает как глубокий мыслитель, анализирующий историю человечества в соответствии с библейской концепцией мира и выражающий свои концептуальные взгляды с помощью библейских цитат. Так, последняя часть очерка «Иудея» представляет собой анализ истории древней Иудеи в полном соответствии с библейской концепцией развития мира, с точки зрения человека Нового Завета. Вспоминая страшные «легендарные бедствия» древней Иудеи по спасению веры в единого Бога, Бунин предельно экспрессивно описывает, что пережил народ Моисея и Авраама: «В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям… Навуходоносор “пахал Сион”. Тит “выше стен” загромоздил его трупами. Приближение его было приближением воинства Сатанаила» (3, 546). С другой стороны, Бунин пишет и о том, что защита древними иудеями веры единобожия выливалась порой в кровавые деяния по уничтожению язычников, за которые посылалось наказание свыше. «“Волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима”. То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, в ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды… И чудовищно было это возмездие! Оно было исполнением пророчеств» (3, 546–547). Вводя далее маркированные и немаркированные библейские цитаты из книги пророка Иеремии о разрушении Иерусалима, Бунин в соответствии с библейской концепцией пишет об исполнении этих пророчеств: «Да замрет в Иудее “голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты”» (Иер. 7:34). «Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать “терном и волчцами”» (3, 546–547).
Таким образом, в очерке «Иудея» Буниным утверждается мысль о необходимости перехода человечества на новый уровень духовного и нравственного развития, преодоления «ветхозаветной ярости»: «ветхозаветный» человек должен преобразиться в «новозаветного» человека. Эта идея получает развитие и в других очерках цикла: «Море богов», «Шеол», «Пустыня дьявола», «Страна содомская», «Ген-нисарет».
В очерке «Камень», во II главе, воссоздавая картины паломничества в ветхозаветные места Иудеи, Бунин подробно описывает то, что происходит у Стены Плача — останков святилища Иеговы, одного из главных священных мест для евреев. Это описание и авторская оценка в конце главы дают очень многое для понимания мировоззрения Бунина, его концепции мира, отношения к Богу и представлений об истинной вере. Картина построена на резком контрасте: верх пространства наполнен радостью и светом: «Радостными синими глазами глядит сверху небо» (3, 551). А внизу, возле Стены Плача, «стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный ропот и говор. <…> И в то время, как одни хватаются за головы, топают ногами и рыдают, другие жадно покрывают поцелуями стену, с восторженными воплями подскакивают и бьют в ладоши...
Сколько здесь круглоликих, огнеглазых юношей с черносиними пейсами, в одеждах испанских евреев, и тонконогих, худосочных старцев, точно сбежавших из Долины Иосафата! Лица их бледны, как смерть, головы закинуты, большие выпуклые веки сомкнуты, крутые серые пейсы и белые длинные бороды трясутся. Страшно то, — что эти библейские покойники наряжены — в новые меховые шапки сверх ермолок и в алые бархатные халаты, которые открывают жидкие ноги в белых чулках и погребальных туфлях» (3, 551).
Приведенное описание предельно насыщено оценочной лексикой, изобразительно-выразительными средствами, передающими авторское отношение к происходящему. Возникает образ слабых, жалких людей, с неистовством что-то выпрашивающих у Бога: «немолчный стон», «дрожащий гнусавый вой», «жалобный ропот и говор», «выкрикивают какие-то заклинания», «жадно покрывают поцелуями стену», «восторженные вопли», «дрожащие голоса», «лица бледные, как смерть» (3, 551). Вместо истинной, глубокой, твердой веры в Бога Бунин видит почти языческое выпрашивание милостей для себя. И потому столько сарказма в описании иудеев, молящихся у Стены Плача. И потому таких носителей религиозности Бунин называет «наряженными библейскими покойниками» (3, 551).
Так же жалко выглядит и жадная, болезненно-неистовая молитва-выпрашивание на вечерних литаниях иудеев, «когда они <…> соединяют свои дрожащие голоса в один мучительный вопль, отвечая предстоящему.
— Одинокие, сидим мы и плачем! — жалобно, фальцетами вскрикивают старцы <…>.
— Молим тебя, умилосердись над Сионом, — запевает предстоящий.
— Собери чад Иерусалима! — подхватывают старцы.
— Поспеши, поспеши, искупитель!
— Да воцарится на Сионе мир и радость!
— И опять расцветает жезл Иесея! (3, 551–552).
В последующем за этой картиной лирико-философском отступлении открыто, декларативно и предельно экспрессивно выражена авторская идея — утверждение необходимости появления в мире Спасителя с тем новым Божественным знанием, которое должно помочь духовному и нравственному спасению и возрождению человечества.
После описания этих жалобных восклицаний иудейских старцев Бунин с колоссальной силой веры в Иисуса Христа утверждает: « Но уже никогда, никогда не расцвести ему снова ветхозаветными цветами! Разве может забыть земля о том незабвенном утре две тысячи лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу? » (3, 551–552) (курсив мой. — Т. К .). Эту силу веры в Иисуса Христа и утверждение Его великой пророческой миссии Бунин подчеркивает с помощью цитаты из Евангелия от Луки: «Ему подали книгу пророка Исайи; и Он, раскрыв ее, нашел место, где было написано:
Дух Господен на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...» (Лк. 4:17–18).
Знаменательно, что большая часть очерков цикла посвящена посещению тех библейских мест, которые связаны с именем Иисуса Христа: «Тень Птицы», «Иудея», «Камень», «Шеол», «Пустыня дьявола», «Страна содомская», «Храм Солнца», «Геннисарет». Как верно отмечает А. А. Пронин, в этих рассказах «Бунин следует евангельским мотивам и сюжетам как доминанте собственного повествования» [15, 462].
Для понимания авторской концепции мира в цикле «Тень Птицы», роли библейских образов, мотивов и времени-пространства героя-повествователя необходимо также охарактеризовать направление его движения. Это движение от древней ветхозаветной Иудеи к новозаветной: к Вифлеему Христа, к Назарету, Иерусалиму, к стране Геннисаретской. И это приближение к Христу, к новозаветным местам наполняет душу Бунина светлой радостью: «Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса…» (3, 546). Как справедливо утверждает О. А. Бердникова, «ощущение этой мистической и поэтической “близости” по мере продвижения автора “по следам Христа” постоянно возрастает» [3, 140].
В очерках, в которых преобладает новозаветное время-пространство, необходимо отметить интересный факт: Бунин ведет повествование о Христе не от рождения к распятию и смерти, а от смерти — к его рождению и жизни. Таким образом, Христос в художественном мире цикла предстает воскресшим, живым, неумирающим, вечным началом в мире.
Описав в «Иудее» тяжелое впечатление от посещения Гроба Господня и Голгофы, мест, связанных с мучениями, распятием и смертью Христа, в последующих очерках Бунин пишет о Спасителе как о живом. Новозаветные библейские места, связанные с именем Христа, рисуются Буниным как пространства, наполненные светом, радостью, жизнью: «Вифлеем — жизнь, воздух, солнце, плодородие»; «Путь до
Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. <…> в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби» (3, 544). А далее Бунин переносит нас на 2000 лет назад и рисует такую же светлую, прекрасную картину, подчеркивая, что и сейчас, как и тогда, вся земля, все сущее радуется приходу в мир Спасителя: «По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где “деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию…”» (3, 544).
Особо Бунин выделяет в цикле те святые места, которые связаны с ключевыми событиями земной жизни Иисуса Христа, описанными в Новом Завете. Течение художественного времени в такие минуты замедляется — настолько значимо все, что связано с Его именем! Все описания библейских мест, напоминающих о земных днях Христа, наполнены особой теплотой, нежностью, трепетной любовью к Нему, глубоким сопереживанием к Его испытаниям. Так, находясь в пустыне Иудейской и вспоминая евангельский сюжет о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и искушении дьяволом, повествователь переживает вместе с Ним Его испытание: «И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей — с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!» (3, 563); «И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил Он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне!» (3, 562). Восхищение Иисусом Христом, Его силой любви к Богу и верой в Него пронизывает все палестинские очерки, становясь лейтмотивом цикла, актуализируя другие мотивы и выявляя важнейшие авторские идеи. Так, темы греха, искушения, звучащие в очерках «Пустыня дьявола», «Страна содомская», «Шеол», находят свое выражение в идее преодоления соблазнов мира по примеру Христа. И поэтому, завершая очерк «Пустыня дьявола», повествователь повторяет знаменитую библейскую фразу, которой Иисус в сцене поединка с дьяволом отверг все богатства и соблазны мира: «Отойди от меня, Сатана!» (3, 568).
Цикл «путевых поэм» «Тень Птицы» завершается очерком «Геннисарет» с описанием святых мест Вифлеема, где родился Иисус Христос, Назарета, где прошло Его детство, и страны Геннисаретской, «где прошла вся молодость Его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был Он в мире» (3, 584).
Прибыв в Тивериаду, на берег Геннисаретского, или Галилейского, озера (в Библии — моря), герой-повествователь испытывает огромное счастье: «…я поминутно говорил себе: я в Тивериаде! Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни» (3, 585). Это взволнованное признание свидетельствует о том, что Геннисаретское озеро для автора, без сомнения, — знаковый библейский топос, где произошло два события, описанных в Евангелии: встреча с Христом будущих апостолов Петра и Андрея и испытание силы веры учеников в Учителя во время бури на море. Библейские цитаты, введенные в текст «путевой поэмы», воссоздают картины этих событий и «максимально сближают метаисториче-ское прошлое и авторское настоящее» [3, 141]. «“Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось…” Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром!» (3, 584). Бунин не просто вспоминает евангельские события, он словно сам «проживает» их. Находясь на берегу Галилейского озера и видя рыбаков, автор вспоминает строки Евангелия от Матфея, когда Христос призвал «двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море», и восклицает: «Разве не мог призвать Он и этих?». «И вот Он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы…» (3, 585).
Эти библейские цитаты и комментарии к ним подчеркивают, насколько сильно духовное погружение автора в библейское время-пространство: кажется, что реальное время-пространство современности исчезает. Включенные в последний очерк, эти цитаты делают ключевыми для всего цикла мотивы истинной веры в Бога, пути к Нему, мотивы
«встречи» с Христом и следования за Ним. Строки Евангелия от Матфея, приведенные Буниным, повествуют о начале пути Иисуса Христа, когда Он только собирал учеников — простых людей, которые порывали с прежней жизнью и, бросая все, шли за Учителем. И Бунин по сути ставит себя рядом с евангельскими Петром и Андреем, подчеркивая таким образом, что Христос призывает и его и что он идет за Ним, как шли Его будущие ученики… Значимость образа Иисуса Христа и мотивов цикла, связанных с Его образом, является еще одним убедительным доказательством спорности мнения П. Бицилли о том, что «в своем путешествии по следам Христа» Бунин «Христа не нашел» [5, 494].
И для автора, и для героя, в силу специфики лиро-эпического жанра «путевых поэм» очень близкого автору, Библия не миф, а первореальность, первоисточник, в котором человечеству даны истинные законы жизни. И поэтому никак нельзя согласиться с мнением А. В. Громова-Колли, что «христианская тема в повествовании не является ведущей, а скорее фоновой, существующей на равных с импрессионистическим пейзажем или натюрмортом городского базара» [6, 38].
Нет, не как праздный и беспечный путешественник, жаждущий все новых и новых впечатлений, странствующий в поисках Красоты, завершает свою поездку на Восток герой-повествователь. Девять лет прошло со времени первого путешествия Бунина в страны Леванта (в Константинополь в 1903 году) и пять лет с момента написания первого очерка цикла (1907), в котором автор ставит целью своего странствия по Востоку, говоря словами любимого «усладительнейшего» Саади, «обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!» (3, 500), увидеть потрясающий по красоте и древности мир Востока, прикоснуться к его жизни, приоткрыть для себя тайны его мудрости. Все это, как и все суетное и слишком человеческое, уходит на второй план, а порой и вовсе исчезает из «путевых поэм», посвященных паломничеству на Святую Землю. В них — глубокое духовное погружение в библейское время-пространство, которое становится временем-пространством автора, в них — встреча с Иисусом Христом, ощущение Его как главного жизненного примера, «проживание» испытаний Христа как
«величайшей из земных трагедий», глубокое концептуальное понимание роли Спасителя в истории человечества. И потому уже не «усладительнейшего» Саади читает в конце путешествия совершивший настоящее духовное восхождение повествователь, душа его просит совсем иного — она тянется к Библии. Этим обращением к Вечной книге и завершается цикл «путевых поэм» Бунина «Тень Птицы»: «И, оставшись один на террасе, я взял с каменного стола лежавшее на нем Евангелие, развернутое как раз на тех страницах, что говорят о море Галилейском. Теперь оно было передо мною» (3, 586).
Обращение героя-повествователя к Библии — безусловно, знаковое, символическое событие не только «поэмы» «Ген-нисарет», завершающей цикл, но и всего призведения в целом. Как подчеркивает В. Н. Захаров, «присутствие Евангелия, а подчас и явление Христа неизбежны в русской словесности. Их следует видеть и замечать» [7, 37].
Характер восприятия героем святых мест, главенство библейского времени-пространства в «путевых поэмах», посвященных паломничеству на Святую Землю, стремление духовно перенестись в библейские времена, слияние хронотопа героя с библейским хронотопом, а порой «исчезновение» времени-пространства современности, выражение авторских концептуальных взглядов с помощью библейских цитат и реминисценций — все это свидетельствует о чрезвычайной значимости библейских событий для автора, об огромном влиянии паломничества на его духовную эволюцию. Перечисленные факты свидетельствуют также о мощной христианской основе мировоззрения Бунина.
Проведенное исследование художественного времени-пространства «путевых поэм» Бунина «Тень Птицы» позволяет определить библейский хронотоп в качестве концептуального хронотопа палестинских очерков и всего цикла в целом.
THE BIBLICAL CHRONOTOPE
Дата поступления в редакцию: 20.10.2014
Список литературы Библейский хронотоп в «путевых поэмах» И. А. Бунина «Тень птицы»
- Айхенвальд Ю. И. Иван Бунин//Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей: в 2 т. -М.: Терра, 1998. -Т. 2. -С. 113-126.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике//Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. -М.: Художественная литература, 1986. -С. 121-291.
- Бердникова О. А. «Так сладок сердцу Божий мир»: Творчество И. Бунина в контексте христианской духовной традиции. -Воронеж: Воронежская областная типография; Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2009. -272 с.
- Бердникова О. А. Реминисценции, цитаты и мотивы Псалтири в творчестве И. А. Бунина//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 7. -С. 315-328.
- Бицилли П. Иван Бунин. Тень птицы//Современные записки. -Париж, 1931. -Кн. 47. -С. 493-494.
- Громов-Колли А. В. «Путевые поэмы» И. А. Бунина//И. А. Бунин и русская литература ХХ века: по материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И. А. Бунина. -М.: Наследие, 1995. -С. 37-40.
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. -Вып. 9: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 6. -С. 24-37.
- Захаров В. Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 8. -С. 180-202.
- Ковалёва Т. Н. Образ Востока в «путевых поэмах» И. А. Бунина «Тень Птицы»//Евразийская лингвокультурная парадигма и процессы глобализации: история и современность. Материалы II Международной научной конференции. -Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2011. -С. 53-55.
- Ковалёва Т. Н. Художественное время-пространство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: дис. … канд. филол. наук. -Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2004. -182 с.
- Крапивин В. Между Синаем и Цейлоном. (Восток в прозе Ивана Бунина)//Литературная учеба. -2000. -№ 5, 6. -С. 145-169.
- Кудряшов И. А., Бессонова Т. М. Концепция хронотопа М. М. Бахтина: история, сферы применения и перспективы исследования//Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия. Материалы IV Всероссийской научно-практической интернет-конференции (15.11.2014). -Ростов-на-Дону: Дониздат, 2014. -С. 37-48.
- Латухина А. Л. Цикл «путевых поэм» И. А. Бунина «Тень Птицы»: проблема жанра: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Н. Новгород, 2004. -22 с.
- Нилус П. А. Иван Бунин и его творчество//Литературное наследство. Иван Бунин. -М.: Наука, 1973. -Т. 84. -Кн. 2. -С. 429-435.
- Пронин А. А. Евангельский «след» в цикле путевых рассказов И. А. Бунина «Тень Птицы» и поэма В. А. Жуковского «Агасфер»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. -Вып. 6: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 3. -С. 459-464.
- Фаликова H. Э. Хронотоп как категория исторической поэтики//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск, 1992. -Вып. 2: Художественные и научные категории. -С. 45-57.