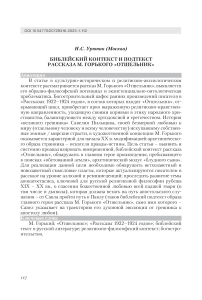Библейский контекст и подтекст рассказа М. Горького "Отшельник"
Автор: Урюпин Игорь Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье в культурно-историческом и религиозно-аксиологическом контексте рассматривается рассказ М. Горького «Отшельник», выявляется его образно-философский потенциал и экзистенциально-онтологическая проблематика. Богостроительный пафос ранних произведений писателя в «Рассказах 1922-1924 годов», в состав которых входит «Отшельник», открывающий цикл, приобретает ярко выраженную религиозно-нравственную направленность, уходящую своими корнями в этику народного христианства, балансирующего между ортодоксией и еретичеством. История «великого грешника» Савелия Пильщика, своей безмерной любовью к миру (отдельному человеку и всему человечеству) искупавшему собственные земные / мирские страсти, в художественной концепции М. Горького оказывается характерной для начала ХХ в. модификацией архетипического образа странника - искателя правды-истины. Цель статьи - выявить и системно проанализировать вневременной, библейский контекст рассказа «Отшельник», обнаружить в главном герое произведения, пребывающего в поисках «обетованной земли», архетипический модус «блудного сына». Для реализации данной цели необходимо обнаружить ветхозаветный и новозаветный смысловые пласты, которые актуализируются писателем в рассказе на уровне аллюзий и реминисценций; проследить развитие темы апокатостасиса, ключевой для русской религиозной философии рубежа XIX - ХХ вв., о спасении божественной любовью всей падшей твари (в том числе и дьявола), которая должна встать на путь апостольского служения - от Савла пройти путь к Павлу (таков библейский подтекст образа главного героя рассказа М. Горького «Отшельник», само имя которого -Савел указывает на траекторию его духовной эволюции от грешника к апостолу любви).
М. горький, «отшельник», «рассказы 1922-1924 годов», библейский текст в русской литературе, религиозно-философский контекст, богостроительство
Короткий адрес: https://sciup.org/149142759
IDR: 149142759 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-112
Текст научной статьи Библейский контекст и подтекст рассказа М. Горького "Отшельник"
M. Gorky; “Hermit”; “The Stories of 1922–1924”; biblical text in Russian literature; religious and philosophical context; God-building.
На протяжении десятилетий М. Горького, пережившего не одну эпоху в истории политического и социокультурного бытия России, по его признанию в статье «О старичках» (1930), неизменно интересовал весьма характерный для русского народного самосознания тип «старичка», излучающего «нежную любовь» к людям и «к самому себе» в порыве духовного исступления, охваченного поиском «“вечных истин”, которые он вычитал из различных евангелий» [Горький 1948, 185], и ответов на «“проклятые вопросы”, которые не разрешаются словами» [Горький 1948, 185]. Таким «старичком», оказавшимся выразителем нравственно-философских исканий автора, явился Савел Пильщик, главный герой «Отшельника» (1922), открывающего цикл «Рассказов 1922–1924 годов». В этот рассказ, тяготеющий к жанру очерка из-за его подчеркнутой документальности и установки на «подлинность зафиксированного, “описанного”» [Дзюба 2011, 36], М. Горький, по замечанию
Н.Н. Примочкиной, «вложил столько “от себя”, столько своих собственных, самых дорогих, годами выстраданных мыслей и чувств» [Примочкина 2020, 103], что сама художественная концепция произведения стала манифестацией воззрений писателя на мир, Бога и человека. Однако при всем ярко выраженном автобиографическом пафосе произведения, равно как и всех остальных «Рассказов 1922–1924 годов», а еще раньше и трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» (1913–1923), позиция повествователя и самого писателя не совпадают полностью, а лишь координируются в мировоззрен-чески-экзистенциальных вопросах, которые герой-автор и автор-создатель художественного текста решают в соответствии с идейно-философскими исканиями русской интеллигенции рубежа ХIХ–ХХ вв.
Интерес к богостроительству как философско-религиозному проекту преображения жизни, пришедшийся на первое десятилетие ХХ в., в пору увлечения М. Горького этической доктриной марксизма и на его основе идеями христианского социализма, отразившимися в повести «Исповедь» (1907) с ее апологией совести как атрибута и акциденции Бога в микро- и макрокосме, нисколько не утратился у писателя и в 1920-е гг., а, возможно даже, и укрепился, поскольку горьковский гуманизм в революционную эпоху оказался обогащен христианским пафосом любви к страждущему Человеку. Богостроительские идеи в 1920-е гг. в творчестве М. Горького получили развитие и конкретизацию, особенно в этико-аксиологической сфере, к которой, по убеждению писателя, сводится всякая истинная религия как морально-нравственная доктрина о добре и правде. В рассказе «Отшельник» тема совести, являющаяся центральной, организует сюжетно-смысловое пространство произведения, траекторию духовного движения его главного героя – странника, искателя истины и человеколюбца, да и сама совесть, как замечал Савел Пильщик, «щенком бездомным» «живет промежду нас, неприютно совести» [Горький 1952, 7]. Совесть в русской религиозной традиции, утверждал И. А. Ильин, есть «основной акт внутреннего самоосвобождения» (курсив И. А. Ильина. – И.У.) [Ильин 2006, 134] от пут греха. Для грешника Савелия, вставшего на путь такого внутреннего очищения, только совесть может быть регулятором нравственной состоятельности человека, ведь «всякий человек не всю жизнь плох»: «Человек – не камень, а и камень от времени меняется» [Горький 1952, 8]. Изменение человека возможно только в процессе его духовного преображения, умягчения сердца, способного испытать жалость и любовь к людям.
«Всепобеждающая сила любви» [Гавриш 1999, 44] – квинтэссенция рассказа М. Горького «Отшельник», представляющего собой «исповедь» «великого грешника», познавшего тайны человеческой души и открывшего Бога в самом человеке, в его сердце. Сердечность Савелия, переходящая порой границы целомудренности и проявляющаяся нередко в буйстве плоти, которую, впрочем, он пытался одолеть молитвой («бывало, часами стою на коленках, все крещусь. Руки у меня пилой намотаны, не устают, и спина тоже. Тыщу поклонов могу положить – не охну» [Горький 1952, 12], стала его жизненным испытанием, а его сладострастность, провоцируя моральные падения, вместе с тем явилась источником искупления. Грех Саве- лия – грех вожделения – в своей глубинной основе оказывается обратной стороной любви к миру («вся земля об этом бредит, – зверь, птица, малая букашка – все одним живы! Кроме-то – чем жить?» [Горький 1952, 10]) и ко всем людям, в особенности к прекрасному полу, перед которым Пильщик, по его признанию, «до женщин невозможный, совсем безумный» [Горький 1952, 10], никогда не мог устоять: «шестьдесят семь годов мне, а и теперь могу всякую женщину добрать до самого конца – вот оно как» [Горький 1952, 10]. Отсюда его исступленные «игры» с женой Натальей («бывало, ночью играешь с ней, а она вдруг и обомлет» [Горький 1952, 8]) и даже с дочерью Ташей («Конешно, играл с ней; дело зимнее, ночи длинные, скуш-но!» [Горький 1952, 10]), вызвавшие досужие пересуды («пустили слушок, будто я изнасилил дочь – живу с ней» [Горький 1952, 8]), а потом и самый настоящий суд, на котором, впрочем, Татьяна «сказала, что сама себе вред сделала» [Горький 1952, 10], сняв тем самым вину с отца.
Савелий хорошо осознавал, что нужно «грехи замолить», и готов был даже отправиться «в Киев, ко святым мощам» [Горький 1952, 9], но в то же время своей преступной страсти пытался найти если не оправдание, то некую духовную санкцию: «Бывает это – живут и с дочерьми. Даже святой один с дочерьми жил, с двумя, от них тогда пророки Авраам, Исаак родились» [Горький 1952, 10]. «Отсылка на “святого” Лота, к которому Савел, вопреки библейской традиции, возводит генеалогию пророков» [Климова 2000, 40], оказывается, по замечанию М.Н. Климовой, свидетельством поверхностного знакомства Пильщика со Священным Писанием. В Книге Бытия сказано, что «сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода моего]. Он отец Аммонитян доныне» (Быт. 19:36-38). И хотя Лот был племянником Авраама, сыном его брата Арана, он вместе с Исааком, законным сыном Авраама, стал наследником Ханаанской земли, данной Яхве в удел своему народу, в знак установления вечной связи между Богом и человеком. Эту обетованную землю на протяжении всей своей жизни искал и Савел Пильщик, скитавшийся «по Руси» в поисках смысла своего существования, пытаясь обрести этот смысл в служении людям: «был в Киеве и в Сибири был», потом искал свою родную Ташу, выданную Анцыфирихой замуж за фельдшера в Курск, а после ее скоропостижной смерти в персидском Узун-городе, направился в Новый Афон и «чуть не остался жить там – хорошее место» [Горький 1952, 11], но море, горы и жара, а главное – темные ночи («такая чернота, будто тебя в смоле утопили» [Горький 1952, 11]) не давали покоя душе Савелия.
Покой стал той заветной целью-ценностью, которую после всех своих «хождений» обрел горьковский старик: «ходил-ходил, потом остановился» [Горький 1952, 11]. В русском богословско-философском опыте постижения мира и человека, по замечанию В.А. Котельникова, «через покой открываются перспективы жизни, связующие ее с премирным благобытием» [Котельников 1994, 29–30]. Живое начало человеческой личности, абсолютизированное Савелием, стало основой его самосознания и религиозной рефлексии, нисколько не противоречившей православной традиции (отсюда при всей «еретичности» его парадоксальной духовной «практики» не прерывающаяся связь с церковью: и атрибуты культа в келье-пещере («три черные иконы», «в углу – аналой», «на аналое в железном держальце – лампадка» [Горький 1952, 5]), и постоянные паломничества по святым местам: «зимой я в Саров ухожу, в Оптину, в Дивеевский» [Горький 1952, 12-13]). Однако все это лишь утверждало в Савелии торжество «живой жизни»: «я живой», – говорил он монахам, призывавшим его уйти от мира («все к себе зовут, чтобы я постригся, в старцы шел бы» [Горький 1952, 13]): «Али я – святой? Я, дружба, просто – тихий человек...» [Горький 1952, 13].
Тишина, будучи онтологическим свойством и состоянием «благобытия», есть неотъемлемый атрибут покоя, в котором нуждается не только человек, но и Бог. В этом был убежден Савел Пильщик: «Все у меня есть, люди меня уважают, а я – бога беспокою. У бога – свои дела, зачем мешать ему? От него даже отводить надо людские пустяки. Он, бог, про нас заботится, а мы о нем – нет!» [Горький 1952, 12]. С искренно-детской, во многом наивной заботой о Боге, «глядя в небеса господни», Савелий в раздумье вопрошал: «Как он там?» [Горький 1952, 12]. «Бога пожалей!» [Горький 1952, 12] – этот императив становится нравственным кредо горьковского отшельника.
Столь необычный, неортодоксальный взгляд на Творца и его творение не мог не заинтересовать автора-собеседника, соприкоснувшегося с особой, народной религиозностью, не имевшей ничего общего с абстрактно-богословскими догмами официального христианства: «Не ясно было мне его отношение к богу, и я осторожно завел беседу на эту тему» [Горький 1952, 15]. Савел вспомнил свое посещение Почаевской лавры и спор с монахом, категоричность и безапелляционность которого в вопросах веры и божественного предопределения отталкивала слабые человеческие души, еще только ищущие духовной пристани.
Такую духовную пристань, нравственную опору в жизни Пильщик обрел в лице «французского попа», «маленького такого попика», вызывавшего поразительное чувство доверия не своей убежденностью в правоте и силе теологических аргументов, а своими сомнениями и слабостями: «весь он – игрушка богова!» [Горький 1952, 15]. Именно он внушил Савелию уверенность в том, что Бог – «не злодей людям, а сердечный друг, только с ним, по доброте его, так случилось: растаял он в слезной жизни нашей, как сахар в воде, а вода сорная, вода грязная, и не стало нам чуть его, не чуем, не слышим скуса божия в жизни нашей. А все-таки он во всем мире пролит и в каждой душе живет чистейшей искрой, и надо, говорит, нам искать бога в человеке» [Горький 1952, 15–16]. Н.Н. При-мочкина усмотрела в «проповеди католического священника из “Отшельника”» «отголосок, эхо тех мыслей, которые писатель достаточно четко изложил в письме Р. Роллану» от 18 марта 1917 г. [Примочкина 2020, 104], где размышлял о святом Франциске Ассизском, о его любви к «Богу как своему созданию» и «любви к жизни», не совместимой ни с каким «унизительным страхом перед Богом» [Горький 2006, 126] (курсив М. Горького. – И.У.).
«Французский поп» в рассказе М. Горького выражает не столько католическое, сколько общехристианское (и даже древлехристианское) понимание абсолютной любви Бога к миру, перед которой никто не может устоять, и сам сатана придет однажды к Создателю и скажет: «велик ты, господи, и силен безмерно, не знал я этого – прости, пожалуйста! А теперь – не хочу больше бороться с тобой, возьми меня на службу себе» [Горький 1952, 16]; «И тогда наступит конец всякому непотребству и злу, и всякой земной сваре, и все люди возвратятся в бога своего, как реки в океан-море» [Горький 1952, 16]. В этой убежденности во всеобщем спасении и воссоединении в любви всех отпавших от Бога душ, которых соберет Господь «во единый ком» [Горький 1952, 16], угадываются черты и другого древнего француза, почитаемого и католической, и православной церковью, – святого Иринея Лионского. Именно он, представляя свое «доказательство апостольской проповеди», утверждал, что «ни субстанция, ни сущность творения не уничтожаются» [Св. Ириней Лионский 2008, 535], а значит – Господь не оставит своей милостью все созданное Им и дарует прощение всей отпавшей от Него твари, даже сатане в случае, если тот раскается. В этом состояло великое утешение, с которым Ириней Лионский шел в мир, ибо «как необходима роса Божия, дабы нам не сжечься и не сделаться бесплодными», говорил святой, так необходимо «иметь нам и Утешителя» [Св. Ириней Лионский 2008, 288].
В рассказе М. Горького «Отшельник» герой, усвоивший духовную мудрость «французика», который стал для него «вроде Иван-Крестите-ля» [Горький 1952, 15], и явился таким «утешителем людям» [Горький 1952, 12]. «Большой это утешитель!» [Горький 1952, 25] – говорил Олеша о старике. Утешая двух баб, пришедших к Савелию просить жизненный совет, он говорил, обращаясь к страждущим душам: «Тебя обидели – бога обидели!»; «Бог-то – где? В душе твоей, за грудями твоими живет свят дух господень» [Горький 1952, 20]; «Ведь бога обидеть – это как малого ребенка обидеть твоего бы» [Горький 1952, 21]; «Помни: бога носишь в душе!» [Горький 1952, 21]. «Бояться надо бога обидеть и в себе и в другом» [Горький 1952, 25], – твердил Савел свою заветную идею. «Кабы мы бога-то помнили – и нищеты не было бы» [Горький 1952, 25], не было бы и никакого зла, которое, был уверен Пильщик, не привнесено в мир извне, а таится в самом человеке, нуждающемся во внутреннем преображении и освобождении от власти греха. Это очень хорошо понимал Олеша, поведавший автору историю своего знакомства с отшельником и обративший внимание на его поразительный дар, связанный с особым проникновением в сокровенную глубину человеческой личности: «Он всякую душу может расплавить, как олово» [Горький 1952, 26].
Весь секрет «душезнавства» Савелия состоял в том, что он призывал каждого человека поверить в самого себя, а значит – поверить в Бога, потому что Бог, по его выстраданному убеждению, находится не за пределами видимого, бренного мира, а внутри самого человека – в его бессмертной душе. Это он внушал молодой мещанке, разочаровавшейся в людях и в самой себе: «Чему не веришь? Себе не веришь, женской силе твоей не веришь, красоте твоей, а – что в красоте скрыто? Божий дух в ней... Мил-лая...»
[Горький 1952, 26]. «Все – в человеке» [Горький 1950, 170], – утверждал в пьесе «На дне» (1902) Сатин, защищая Луку, будто бы выступавшего «против правды» [Горький 1950, 165], а на самом деле внушавшего обитателям ночлежного дома уверенность в собственных силах и в правоте своего понимания жизни: «Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда!» [Горький 1950, 165]. И хотя Сатин признавал, что «есть ложь утешительная, ложь примиряющая» [Горький 1950, 166], которая «оправдывает» непомерную тяжесть людских страданий («одних она поддерживает, другие – прикрываются ею» [Горький 1950, 166]), сам он не разделял убеждений Луки, но и не осуждал его жалостливые порывы, его безмерное милосердие и сострадание к человеку. В 1920-е гг. весь комплекс нравственно-философских и этико-социальных идей, поставленных М. Горьким в пьесе «На дне» и вызвавших общественную дискуссию, был принципиально актуализирован писателем, убедившимся в том, что ни проблема поиска правды, ни оправдание «лжи во спасение» не могут быть решены исключительно с сатинских позиций интеллигента-позитивиста, есть и другая сторона отнюдь не «фальшивой монеты» (так, кстати, называется горьковская пьеса) – народное, утешительно-сердечное отношение к «униженному и оскорбленному» человеку. В рассказе «Отшельник» Савел Пильщик, подобно герою пьесы «На дне», «обманывает немножко» («ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана... Есть, дружба, такие... Есть...» [Горький 1952, 28]), для каждого он находит слова поддержки и утешения: «Я всем правду говорю, кому какую надо. Вот оно что» [Горький 1952, 27]. Г.Д. Гачев, анализируя феномен Луки и его понимание правды как экзистенциально-онтологической категории, пришел к выводу о том, что странник «раскупоривает человека, открывает его самому себе и, следовательно, миру» [Гачев 2018, 549], зажигает «собственную правду каждого человека» [Гачев 2018, 551], выступая «повивальной бабкой, помогающей разродиться этой священной для мира сути каждого человека» [Гачев 2018, 548].
Такую «священную для мира суть каждого человека» в рассказе «Отшельник» раскрывает Савел Пильщик, пребывающий в вечном поиске правды-истины, которая наполняет земное бытие смыслом. Он и есть тот искатель «скуса божия в жизни нашей», который, подобно апостолу Павлу, через мирское приходит к божественному. Не случайно имя героя горьковского рассказа – Савел – является аллюзией на имя апостола до его обращения ко Христу – Савл. Уходящая в подтекст библейская история возвращения к Богу всех духовных скитальцев проецируется и на самого Савелия Пильщика, отшельника, убежавшего от мира, но не порвавшего с ним и томящегося в поиске нравственной опоры и пристанища. Идея возвращения к первоначалу после странствий по океану жизни, с ее соблазнами и искушениями, лежит в основе Послания к Филимону святого апостола Павла, утверждавшего необходимость принятия в божественное лоно всех, кто «на время отлучился», но «не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного» (Фил. 1:15-16). Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) называл это Послание «апостольской притчей о блудном сыне» [Иоанн 1992, 30].
Притча о блудном сыне оказывается идейно-смысловым претекстом всего рассказа М. Горького «Отшельник», главный герой которого признавался автору: «Мне поп один о блудном сыне рассказывал из евангелия, – я это очень помню. По-моему, притча эта про дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудень сын» [Горький 1952, 29]. В финале произведения Савел вновь вспоминает «французика» и его слова о том, что «дьявол господу поклонится в свой час» [Горький 1952, 29]. Размышляя об «условиях абсолютного добра», Н.О. Лосский констатировал: «У нас есть достаточное основание утверждать, что даже и сатана рано или поздно преодолеет свою гордыню и вступит на путь добра» [Лосский 1991, 125]. Эта идея о «милосердии Божием», которое «настолько велико, что вход в царствие небесное не закрыт ни для кого, даже для дьявола» [Пигин 1998, 123], через апокрифические тексты распространившаяся уже в Древней Руси, стала частью национального религиозного сознания.
Вообще «центрированность русской философии на теме апокатаста-сиса» [Гачева 2018, 26], по замечанию А.Г. Гачевой, определила векторы духовного поиска отечественной интеллигенцией диапазона небесной и земной Любви. «Всю чарующую силу любви своей» Савел Пильщик «влагает в одно слово утешения: “Милая...”» [Горький 1952, 29]. Утешителем является сам Господь в ипостаси Святого Духа, а значит – горьковский отшельник действительно обладает «сокровищем безмерной любви в миру» [Горький 1952, 29]. Так через библейский подтекст и контекст писатель актуализирует аксиологические константы человеческого и божественного бытия. Горьковская идея любви-утешения, отвергаемая позитивистски настроенной леворадикальной интеллигенцией, была чрезвычайно близка простому народу, нуждавшемуся в поддержке тех духоносных старцев, которые, подобно отшельнику Савелу, находили к каждому человеку сокровенную, заветную тропу и несли те добрые слова, которые сами, быть может, наивно, но простосердечно восприняли из Священного Писания.
Список литературы Библейский контекст и подтекст рассказа М. Горького "Отшельник"
- Гавриш Т.Р. Кто я? К изучению рассказов М. Горького 20-х годов в школе // Литература в школе. 1999. № 6. С. 40-44.
- Гачева А.Г. Апокатастасис в русской религиозно-философской мысли последней трети XIX - первой трети ХХ в.: Ф.М. Достоевский, Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев. Статья первая // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2018. № 1(11). С. 24-37.
- Гачев Г.Д. Что есть истина? Прение о правде и лжи в «На дне» М. Горького // Максим Горький: pro et contra, антология. Современный дискурс. СПб.: РХГА, 2018. С. 535-554.
- Горький М. Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 12. Письма. Январь 1916 - май 1919. М.: Наука, 2006. 726 с.
- Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6. Пьесы. 1901-1906. М.: Художественная литература, 1950. 560 с.
- Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 16. Рассказы, повести. 1922-1925. М.: Художественная литература, 1952. 604 с.
- Горький М. Статьи и памфлеты. Л: Молодая гвардия, 1948. 352 с.
- Дзюба А.С. Черты жанра очерка в рассказе «Отшельник» М. Горького // Вестник Университета Российской академии образования. 2011. № 1. С. 36-39.
- Ильин И.А. Путь духовного обновления. М.: Апостол веры, 2006. 448 с.
- Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Послание апостола Павла к Филимону // Православная община. 1992. № 1. С. 30-32.
- Климова М.Н. Отражение мифа о великом грешнике в рассказе А.М. Горького «Отшельник» // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки. Филология. 2000. № 6. С. 39-42.
- Котельников В.А. «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // Русская литература. 1994. № 1. С. 3-41.
- Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. Основы этики. Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
- Пигин А.В. Древнерусская легенда о «кающемся» бесе (к проблеме апоката-стасиса) // Проблемы исторической поэтики. 1998. № 5. С. 122-139.
- Примочкина Н.Н. «...Сейчас я пишу "о любви"...» (Проблематика и поэтика рассказа М. Горького «Отшельник») // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2020. № 6-1. С. 102-109.
- Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. 672 с.