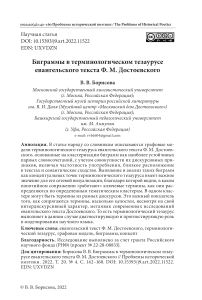Биграммы в терминологическом тезаурусе евангельского текста Ф. М. Достоевского
Автор: Борисова Валентина Васильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье наряду со словником описываются графовые модели терминологического тезауруса евангельского текста Ф. М. Достоевского, основанные на кластеризации биграмм как наиболее устойчивых парных словосочетаний, с учетом совокупности их дискурсивных признаков, включая частотность употребления, близкое расположение в текстах и семантическое сходство. Выявление и анализ таких биграмм как концептуальных точек терминологического тезауруса имеет важное значение для его сетевой визуализации, благодаря которой видно, в каком понятийном сопряжении «работают» ключевые термины, как они распределяются по определенным тематическим кластерам. В одном кластере могут быть термины из разных дискурсов. Это важный показатель того, как сопрягаются термины, насколько целостен, несмотря на свой интердискурсивный характер, метаязык современных исследований евангельского текста Достоевского. То есть терминологический тезаурус выполняет в данном случае диагностирующую и прогностирующую роль в моделировании научного языка.
Евангельский текст ф. м. достоевского, терминологический тезаурус, графовая модель, биграммы, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/147238880
IDR: 147238880 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11522
Текст научной статьи Биграммы в терминологическом тезаурусе евангельского текста Ф. М. Достоевского
Н астоящая статья является продолжением предыдущих публикаций [Борисова], [Борисова, Шаулов], в которых рассматривалась проблема машинного анализа и «человеческой интерпретации» тезауруса евангельского текста Ф. М. Достоевского на материале терминов-униграмм. Однако наряду с ними в терминологический словник тезауруса входят биграммы как наиболее устойчивые парные словосочетания, имеющие значение ключевых слов, которые определяют тематическую направленность текста и выполняют важную смысловую нагрузку.
Этими функциями определяется значение биграмм для моделирования литературоведческой терминологии на основе цифровой обработки максимально полного корпуса текстов, что позволяет выстроить сетевую модель терминологического словника в виде системы графов, учитывающих совместную встречаемость базовых терминов, и описать тезаурус в его основных концептах.
Ключевые термины («вершины» или «узлы»), фигурирующие в графах как центральные понятийные точки, имеют принципиально важное значение в исследованиях «евангельского текста» Достоевского. «Ребра», соединяющие линиями «узлы», наглядно отражают совместную встречаемость этих терминов в тексте. Чем их больше, тем сильнее связь и толще «ребра». При такой сетевой визуализации видно, в каком понятийном сопряжении «работают» термины-биграммы, как они распределяются по определенным тематическим кластерам, обрастая новыми определениями, раскрывающими особенности узуального и контекстуального словоупотребления. В одном кластере могут быть понятия из разных дискурсов. Это важный показатель того, как биграммы сопрягаются, насколько целостен метаязык современных исследований евангельского текста Достоевского. Таким образом, «машинный анализ» терминологического тезауруса евангельского текста Достоевского выполняет в данном случае диагностирующую функцию.
В терминологическом словнике нами выделены термины, относящиеся к тому или иному дискурсу, подсчитано количество их словоупотреблений, проанализированы наиболее частотные биграммы, что позволило выявить в исследованиях евангельского текста Достоевского комплекс устойчивых терминологических словосочетаний, закрепленных как литературоведческой, так и религиозно-философской традицией.
Публикуем пятнадцать биграмм, наиболее показательных для каждого дискурса.
|
Общая (теоретическая) поэтика |
Историческая поэтика и этнопоэтика |
Богословие |
Философский и др. дискурсы |
|
русская литература 1470 главный ге рой 256 русская словесность 233 художественный мир 159 поэтика Достоевского 119 древнерусская литература 100 русская классика 97 художественный текст 92 русский роман 80 классическая литература 79 картина мира 68 русская поэзия 68 литературный жанр 68 |
евангельский текст 301 христианская традиция 147 святочный рассказ 134 христианский реализм 94 цитата / реминисценция 91 мотив / сюжет 87 православная традиция 83 сюжет / жанр 82 русский православный 80 реминисценция / мотив 79 пасхальный рассказ 72 канонический текст 71 пасхальный архетип 70 категория соборности 64 |
Блудный Сын 156 Иисус Христос 130 Священное Писание 119 Образ Христа 99 Православная Церковь 81 Ветхий Завет 78 Божия Матерь 77 Святой Отец 72 Великий Пост 56 Евангельское слово 56 Царство Божие 53 Святой Дух 53 Евангельская притча 50 Страшный Суд 48 Слово Божие 47 |
русский народ 226 русский человек 204 религиознофилософский 96 русская культура 332 христианская культура 74 культурная традиция 62 православная традиция 83 духовная жизнь 68 социальное христианство 55 славянская культура 55 русский мир 51 русский религиозный 44 православная культура 43 русская мысль 43 русская земля 43 христианская идея 39 |
Заглавное написание слов, относящихся к религиозной и церковной лексике, — это маркировка богословских категорий, имеющая в терминологическом тезаурусе евангельского текста принципиальное значение. Так обозначается сакральный характер тем Бога, Христа и Церкви в русской словесности. Как справедливо пишет В. Н. Захаров, «заглавная буква не только знак культуры и истории языка, но метафизика текста» [Захаров, 2009: 7] (см. также: [Захаров, 2009: 11], [Захаров, 2007]). Строчный же регистр в написании богословских понятий в ряде литературоведческих исследований обусловлен их ме-тафоризацией и парафразированием.
Анализ итоговой версии словника, в которую вошло более 200 биграмм1, с тематической точки зрения выявил ряд показательных особенностей его структуры и содержания.
Прежде всего, очевидна типологическая соотнесенность используемых понятий, обусловленная расширением терминологического поля, дополнением литературоведческого инструментария изучения евангельского текста Достоевского категориями из других, родственных дискурсов.
Так, в группу ключевых терминов, обозначающих предмет этнопоэтики, наряду с его традиционными формулировками входят и новые, обусловленные аксиологией и методологией научного направления, в рамках которого изучается евангельский текст Достоевского: вместе с биграммами «русская литература», «русская культура», «славянская культура», «национальная культура», «народная культура» сегодня исследователями активно используются, например, терминологические словосочетания «русская словесность», «отечественная словесность», «христианская культура», «православная культура».
Переход от понятия «русская литература» к понятию «русская словесность» и аналогично от определения «древнерусская литература» к терминологическому словосочетанию «древнерусская словесность» имеет принципиальное аксиологическое значение [Захаров, 1991, 1994a, 2016], [Моторин]. Русская литература изначально была и оставалась на протяжении последних десяти веков христианской словесностью, «Откровением того Слова, которое, по Иоанну Богослову, дало начало и смысл миру и которое было явлено крещением Руси» [Захаров, 1991: 9–10].
Статистические данные терминологического словоупотребления подтверждают также преимущественное внимание исследователей к классическому периоду русской литературы (об этом свидетельствуют биграммы «классическая литература», «русская классика»), для которого в наибольшей степени характерна связь с православной традицией. Не меньшим этноконфессиональным своеобразием отмечена «возвращенная литература» ХХ века и «литература русского зарубежья» первой волны, которая, по словам В. Н. Захарова, «жила памятью былой христианской России, лелеяла исторический образ Святой Руси» [Захаров, 1994c: 8].
Сам предмет изучения художественной литературы конкретизируется благодаря таким биграммам, как «русская поэзия», «русская проза», «русский роман», в которых определение «русский» в рамках изучения «литературного процесса» и «творческого пути» писателя в христианском контексте также приобретает далеко не формальное значение.
Аналогичным образом выглядит в терминологическом словнике система понятий, центральными в которой являются соотносимые категории «художественный мир», «картина мира», «модель мира», «внутренний мир» произведения. Синонимичны по отношению к ним новые биграммы, обозначающие аксиологический поворот в изучении русской литературы от сугубо эстетического и национального аспектов к конфессиональному: «духовный мiръ», «христианский мiръ», «православный мiръ», «Божий Мiръ».
Этот поворот маркирован восстановлением первоначального написания слов «миръ» и «мiръ», созвучных, но разных по смыслу и написанию. Как известно, у слова «миръ» три значения: 1) противоположность войне, 2) покой, согласие, 3) тишина, порядок. Гораздо больше значений у слова «мiръ»: 1) Вселенная, Земля, 2) род человеческий, 3) община («крестьянский мiръ»), 4) сообщество верующих («христианский мiръ»), 5) среда (например, «научный мiръ»), 6) другое пространство («мiръ иной»), 7) внутреннее состояние личности («духовный мiръ»)2.
И хотя «миръ» есть состояние, в котором в идеале должен находиться «мiръ», это разные слова. «Миръ» завещал своим последователям Иисус Христос: «Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ…» (Ин. 14:27), а «Мiръ Божий» — это создание Творца, поэтому Церковь молится «о мирѣ всего мiра».
У Достоевского в «Дневнике Писателя» за 1880 г. есть четкое различение понятий «миръ» и «мiръ»: «Позвольте, представьте что вы сами возводите зданiе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалѣ осчастливить людей, дать имъ наконецъ миръ и покой»3. Христианский смысл Пушкинской речи, особенно важный в выражении национального идеала, воплощенного, по мысли Достоевского, великим русским поэтом, проявляется только в правильном написании корня «мiръ»: «Но укажите хоть на одного изъ этихъ великихъ генiевъ который бы обладалъ такою способностью всем i рной отзывчивости какъ нашъ Пушкинъ»4.
Соответственно, понятия «миръ» и «мiръ» должны дифференцироваться и при изучении евангельского текста Достоевского, однако при цитировании текстов писателя без учета авторской орфографии и пунктуации церковно-славянская традиция, как и богословская, не соблюдается. Это одна из издержек, связанная именно с употреблением богословских терминов, проявляющаяся даже в статьях, в которых национальный образ мира (то есть «русский мiръ») в его связях с народно-поэтическими и христианскими традициями специально рассматривается как категория этнопоэтики русской словесности [ Шешунова].
Традиционными атрибутами «образа мира» по-прежнему выступают такие категории исторической поэтики, как «хронотоп», «художественное время», «художественное пространство», «усадебный топос», «концепт дом». При этом в рамках евангельского текста Достоевского также активно изучаются «библейский хронотоп», «христианский хронотоп», «рождественский и пасхальный хронотопы», «христианский календарь» с их сакральной символикой [Захаров, 2011], [Серопян], [Федорова, 2021], используются характерные топонимы «святое место», «святая земля», «Сионская высота» и др.
Не менее репрезентативна тематическая группа, в центре которой — категория «литературный жанр», в том числе «жанр Достоевского». Им, наряду с понятием «русский роман», сопутствуют, например, такие жанровые формулы, как «пасхальный рассказ», «рождественский рассказ», «святочный рассказ», «духовный стих», а также «Евангельская притча», «Послание Апостола», «Житие святого», «Нагорная проповедь», «Откровение Иоанна» и др., что в данном случае свидетельствует о том, что терминологический аппарат в исследованиях евангельского текста в русской словесности в целом и в творчестве Достоевского в частности становится все более адекватным предмету изучения [Захаров, 1994b], [Есаулов]. Здесь имеется в виду не только расширение терминологического тезауруса, но и его трансформация наряду с актуализацией исходных понятий, когда евангельская притча рассматривается как жанровая модель художественного произведения, а евангельский мотив — как элемент нарративной структуры.
Эта тенденция очевидна и в системе терминов, связанных с базовыми категориями «художественный образ», «национальный образ», которые активно дополняются понятиями «христианский образ», «библейский образ», «евангельский образ», «житийный образ», «пасхальный образ», «образ Христа», «Иисус Христос», «русский Христос», «Божья Матерь», «Пресвятая Богородица», перифразами «Сын Человеческий», «образ Божий», «Сын Божий», а также устойчивыми словосочетаниями «Святой Отец», «Злой Дух», «блудный сын» и т. п.
Эти библейские образы русская словесность органично восприняла как систему символов. В самой Библии они представлены как прообразы, выражающие основные христианские истины и имеющие огромную традицию богословско-догматического толкования [Лосский], [Шараков], с которой в той или иной степени соотносится их символическая интерпретация в художественной словесности и в ее этнологических исследованиях.
Так, изначально «христианский образ» понимался как икона — имеется в виду иконность образа, его иконографическое представление ( греч. eikon — образ). В современной литературоведческой практике это понятие используется не только в прямом, но и в переносном смысле, когда художественный образ выступает как результат трансформации и метаморфозы архетипического христианского образа, а в литературном образе, например, вскрывается евангельская семантика [Мюллер], [Бёртнес], [Джексон].
О том, что дискурс этнопоэтики расширяется, свидетельствует группа терминов, в которую наряду с традиционными категориями общей поэтики, такими как «художественный текст», «поэтический текст», «литературный текст», «прецедентный текст», «канонический текст», входят новые биграммы «евангельский текст», «библейский текст», а категории исторической поэтики «литературная традиция», «культурная традиция», «античная традиция» дополняются словосочетаниями «христианская традиция», «православная традиция», «литургическая традиция» и т. п. [Гаричева].
Новое понимание отечественной словесности в ее связях с христианским преданием проявляется и в отношении сю-жетологии, в терминологический аппарат которой помимо традиционных обозначений («сюжетная линия», «сюжетная ситуация», «сюжет испытания»), а также терминологических пар («мотив / сюжет», «сюжет / жанр») входят биграммы «евангельский сюжет», «библейский сюжет», «Рождество Христово», «воскрешение Лазаря», «Светлое Воскресение», «спасение души», «испытание веры» и т. п.
Аналогично выглядит тематическая группа терминов, в которой традиционные определения «литературная цитата»,
«литературная реминисценция» дополняются их новыми вариантами «библейская цитата» и «евангельская цитата» [Башкиров], [Гаврилова], органично сопрягающимися с категориями интертекстуальной поэтики.
Таким образом, уже на этапе анализа и интерпретации данных терминологического словника на материале биграмм возможно сделать выводы относительно современного состояния метаязыка этнопоэтики как приоритетного направления отечественного литературоведения: налицо его интердискурсивный характер, обусловленный динамично развивающимся сопряжением поэтологических, богословских и философских категорий в силу генетических и типологических связей между ними, актуализирующихся в новом контексте изучения русской словесности [Захаров, 2020], [Федорова, 2015].
Перейдем к анализу и интерпретации графовых моделей терминологического тезауруса евангельского текста Достоевского. Для их построения из корпуса статей были извлечены случаи совместной встречаемости терминов-биграмм на расстоянии пяти словоупотреблений друг от друга. На основе их машинного анализа построены два графа, в которых термины автоматически сгруппированы по кластерам (группам одного цвета). Размер узла в графе зависит от значения коэффициента степени посредничества: чем важнее термин для сети, тем больше по размеру его узел. Для определения ключевых узлов в сетевой модели подсчитывалась центральность по степени посредничества, позволяющая выявить наиболее важные термины, которые способствуют взаимосвязи кластеров. Ключевым узлом (термином) в обоих графах является биграмма «русская литература», имеющая наибольший коэффициент betweenness centrality.
Граф терминов с совместной встречаемостью не меньше 5, расстояние — 55
Визуальный анализ данного графа показывает, какие кластеры — группы вершин, выделенные разными цветами, — в него входят. Это, во-первых, центральный кластер (фиолетовый цвет), в котором ключевые узлы «историче ская поэтика» , «евангельский текст» связаны с биграммами
«русская словесность», «христианский реализм», «категория соборности», «пасхальный архетип» и т. п., что свидетельствует в данном случае о взаимодействии дискурсов исторической поэтики и этнопоэтики.
Наибольшее количество ребер исходит из узла «русская словесность», главного в кластере (зеленый цвет), в котором наряду с понятием «категория пасхальности» фигурируют такие устойчивые словосочетания, как «блудный сын», «блудная дочь», «евангельская притча» и др.
В свою очередь, биграмма «евангельский текст» плотно связана с такими парными терминами исторической поэтики (синий кластер), как «сюжет / жанр», «реминисценция / мотив», «мотив / сюжет», «цитата / реминисценция», а также с категорией этнопоэтики «евангельская цитата». Здесь налицо большая степень сопряжения поэтологических терминов.
Визуализация тезауруса показывает также, что ряд биграмм, в частности некоторые философские, культурологические и богословские понятия, находятся на периферии графа, несмотря на тенденцию к кластеризации. Так, малой степенью посредничества в данной сетевой модели отличаются термины-биграммы «философская мысль», «религиозно-философский», «русский религиозный». Отдельно фигурирует моно-тематический кластер (черный цвет), в который входят биграммы «православная традиция», «православная церковь», «православная культура». Аналогично особняком, без связи с самой большой компонентой, функционирует кластер с терминами (красный цвет) «национальная культура», «национальный характер», «русский национальный» и т. п., что свидетельствует о его локальности.
Судя по дискретному характеру графа, степень сопряжения терминов-биграмм, относящихся к дискурсам богословия, философии и этнопоэтики, с категориями общей и исторической поэтики в современном достоевсковедении еще недостаточная. Только в центральном кластере с главным узлом «русская литература» проявляется тенденция к совместному словоупотреблению категорий, имеющих отношение к разным дискурсам. Именно с ней связан потенциал развития терминологического инструментария евангельского текста Достоевского.
Граф терминов с совместной встречаемостью не меньше 3, расстояние — 56
В целом, данный граф выглядит менее дискретным, но его отличает преимущественная монокластеризация, выявляются несвязанные компоненты, что свидетельствует о неоднородности тезауруса евангельского текста Достоевского. Хотя от главной биграммы «русская литература» исходит наибольшее количество ребер ко всем кластерам, по-прежнему обособленно на периферии графа представлен ряд богословских понятий («преображение человека», «духовное преображение», «образ Божий», «Божия Матерь», «Царство Божие» и др.). Не случайно они имеют нулевой коэффициент посредничества с другими терминами.
Тем не менее и в данном графе очевидна тенденция к совместному словоупотреблению разнородных понятий, к их семантическому расширению, когда, например, изначально богословские категории в литературоведческом контексте обрастают новыми значениями.
В частности, в биграмме «блудный сын» выделяются два значения: «блудный сын» как персонаж библейской притчи и «блудный сын» как тип литературного героя, характерный для художественной словесности, что свидетельствует о наложении и взаимопроникновении дискурсов, об экстраполяции библейского понятия в сферу поэтики, что особенно показательно для литературного образа «блудной дочери», созданного по аналогии с ветхозаветным прототипом [Чернов], [Габдуллина].
Выводы по анализу биграмм в целом согласуются с результатами машинного анализа униграмм в терминологическом тезаурусе евангельского текста Достоевского, что свидетельствует об их объективности и репрезентативности.
С одной стороны, налицо интердискурсивный характер терминологического тезауруса евангельского текста Достоевского, обусловленный динамично развивающимся сопряжением поэтологических, богословских и философских категорий. С другой стороны, степень сопряжения терминов-биграмм, относящихся к разным дискурсам, судя по дискретному характеру графовых моделей, в современном достоевсковедении еще недостаточно высокая. Однако очевидна и тенденция к совместному словоупотреблению разнородных понятий, к взаимопроникновению дискурсов.
Таким образом, «машинный анализ» терминологического тезауруса евангельского текста Достоевского и интерпретация его результатов выполняют в данном случае наряду с диагностирующей и важную прогностирующую функцию. Необходимо дальнейшее развитие научного аппарата в современных исследованиях русской литературы в русле этнопоэтики как продуктивного междисциплинарного направления в гуманитарной науке, в рамках которого представляется эффективным органичное сопряжение понятий общей и исторической поэтики с богословскими, философскими и иными категориями с учетом корректной актуализации их первичных значений в новом контексте.
Список литературы Биграммы в терминологическом тезаурусе евангельского текста Ф. М. Достоевского
- Башкиров Д. Л. Евангельский текст в произведениях Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 398–414 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431425044.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2008.284
- Бёртнес Ю. «Христос-отец»: к проблеме противопоставления отца кровного и отца законного (символического) в «Подростке» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 410–415 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2533 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2533
- Борисова В. В. Евангельский текст в творчестве Ф. М. Достоевского: проблемы и перспективы изучения // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 4. С. 186–208 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1604078344.pdf (10.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8582
- Борисова В. В., Шаулов С. С. Терминологический тезаурус евангельского текста Ф. М. Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2022. Т. 9. № 2. С. 117–136 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1657603083.pdf (10.03.2022). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6122
- Габдуллина В. И. Вариации мотива «блудной дочери» в нарративе романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. Вып. 13: Актуальные аспекты. С. 234–252 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449825433.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2015.2981
- Гаврилова Л. А. Коммуникативные стратегии и евангельская цитата в «Дневнике Писателя» Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. Вып. 13: Актуальные аспекты. С. 287–303 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/content_list.php?id=3721 (10.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2015.2653
- Гаричева Е. А. Евангельское слово и традиции древнерусской словесности в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 188–195 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/content_list.php?id=3752 (10.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2012.350
- Джексон Р.-Л. Речь Алеши у камня: «целая картина» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 275–295 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2668 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2005.2668
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 350–362 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2526 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2526
- Захаров В. Н. Прошлое, настоящее и будущее русской литературы // Современные проблемы метода, жанра и поэтики русской литературы: межвуз. сб. / отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск: ПетрГУ, 1991. С. 3–10.
- Захаров В. Н. Канонический текст Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского: сб. науч. тр. / ПетрГУ; отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 355–359. (a)
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 248–260 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2403 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2403 (b)
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 4–10 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370 (c)
- Захаров В. Н. Буква и дух русской классики // Слово: православный образовательный портал / гл. ред. игумен Августин (Заярный). [СПб., 2007] [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37409.php (25.05.2022).
- Захаров В. Н. Текстология как технология // Проблемы текстологии Ф. М. Достоевского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. Вып. 1. С. 3–26.
- Захаров В. Н. Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. Вып. 9. С. 24–37 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962964.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2011.301
- Захаров В. Н. Есть ли у нас литература? Концепты «литература» и «словесность» в русской критике // Проблемы исторической поэтики. 2016. Вып. 14: Анализ, интерпретации, понимание. С. 7–15 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482396216.pdf (30.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2016.4043
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7–19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (30.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Лосский В. Н. Богословие образа // Богословские труды. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1975. Сб. 14. С. 105–113.
- Моторин А. В. «Словесность» и «литература»: духовные основы русского и западноевропейского отношения к словесному творчеству // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 17–36 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2590 (10.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2008.2590
- Мюллер Л. Образ Христа в романе Достоевского «Идиот» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 375–374 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2529 (10.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2529
- Серопян А. С. О сакральном в художественном времени Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. Вып. 9. C. 160–168 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430310598.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2011.313
- Федорова Е. А. Евангельское как родное в «Братьях Карамазовых» и «Дневнике Писателя» (1876–1877) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. Вып. 13: Актуальные аспекты. С. 304–316 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456330696.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2015.2659
- Федорова Е. А. Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» (1876) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 258–282 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612777253.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182
- Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 151–158 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2378 (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2378
- Шараков С. Л. Христианский символизм в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 202–218 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516455.pdf (06.06.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2013.380
- Шешунова С. В. Национальный образ мира как категория этнопоэтики русской словесности // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 6–16 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2589.pdf (25.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2008.2589